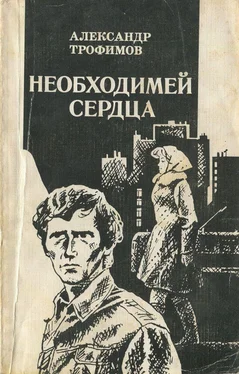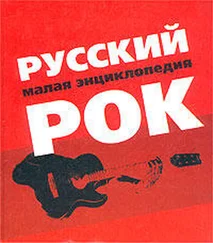Андрей вспомнил, что, когда он приносил в дневнике четверку или, не дай бог, тройку, отец переставал замечать его. И сын становился невидимкой. Он боялся громко наступить на половицу, боялся сказать слово. Нет, отец никогда не ругался. Только сын научился читать, Павел Павлович повесил над его письменным столом отпечатанные на машинке правила. Подъем в семь, душ. Зарядка. Завтрак. Школа. В школе внимательно слушать учителей. Не говорить громко. Не пачкаться. Никогда не говорить ни с кем о том, что происходит дома. Из школы — сразу домой. Отдых — тридцать минут. Английский. Прогулка — час сорок. Уроки. Чтение. Сон. По такому распорядку прошли десять лет жизни Андрея. Он быстро привык к ним, но никогда не мог привыкнуть к отчужденности, с которой товарищи по классу относились к нему. В институте было то же отчуждение. Только Ольга поняла его незаурядную душу и стала его женой. Раздумывая над детством, он приходил к выводу, что такой жестокий распорядок дня — прекрасная черта биографии великого ученого. Но он не станет великим — это он мог понять. Что же получалось? Он не видел детства из-за частокола школьных забот, не видел юности из-за леса формул. И компенсировалось это всего лишь усиливавшимся с годами чувством обособленности. Похвалы учителей уводили от школьных обид в возвышающую, радостную мысль, что он особенный, а все остальные похожи друг на друга. И бивали его — случалось, тут надо отдать должное отцу — он сразу шел в школу, не к учителям, а прямо к директору, звонил в роно — учеников наказывали. Но государство детства — автономное государство, взрослые наивно думают, что владеют им, знают его законы. Отношение взрослых к детям всегда таково, словно они никогда не были детьми. В институте он понял главное — у него нет страсти к учебе. Нет одержимости познания: ведь настоящий ученый стремится к знаниям, как голодный к пище. И, поняв это, Андрей чувствовал в себе все большую пустоту, которую нечем было заполнить. Он старался забыть о ней и, бывало, забывал надолго, но в самые неподходящие моменты она возникала в нем и напоминала о себе. Он не говорил о ней даже Ольге, сознавая, что она его не поймет. Нет, я не ученый, я мученик науки, не раб, но слуга. И когда он все это в себе открыл, то заметил это и в других людях и удивился — многие коллеги относились к науке лишь как к средству существования, главными для них были увлечения — одни собирали марки, другие — картины авангардистов, третьи — болели вернисажизмом, четвертые — ничего не хотели знать, кроме молодых жен, пятые — увлекались дачей, шестые — автомобилем. Те же, кто занимался наукой от души, не имели времени ни на что другое. Андрей искренне завидовал Вадиму Семернину — тот был, пожалуй, самый талантливый из его круга. Что-что, а талант Андрей чувствовал издали, как самого близкого человека, — ближе матери, ближе жены, этому научила его зависть, которую он скрывал даже от себя. Если бы на каком-то высшем суде ему сказали, что, лишившись матери, отца, жены, он обретет талант, настоящий талант, а не талантишко, — он бы согласился на эти жертвы.
И Андрей жил с этими мыслями, боясь потерять блага, к которым привык, — это было бы в его глазах сумасшествием. И мысли эти поддерживала в нем все слабеющая, но еще не оскудевшая уверенность, что в нем пробудится страсть к науке.
— Ты скоро, Андрей? — крикнула Ирина Сергеевна.
В лес шли парами: Андрей — с матерью, Ольга — с Пал Палычем.
Андрей с мефистофельской усмешкой смотрел на родителей, которые подобострастно раскланивались с теми, кто мог быть хоть чем-то полезен. Это был целый ритуал, и Андрей с неудовольствием замечал, как неприятно это Ольге.
— Какой чистый воздух, — сказала мать, — я так рада, что мой сын будет кандидатом наук.
В ее словах Андрею слышалось: я всегда знала, что мой сын будет ученым, я сделала его таким, я проверяла каждый его шаг, Андрей не спился, как сын Виктора Сергеевича, не женился на колхознице, как сын Сергея Ильича, не уехал вдруг егерем, как внук Михаила Игоревича, они все не выдержали конкуренции, потому что родители всех этих неудачников, особенно матери, неправильно их воспитывали, у тех матерей не было ни способностей к воспитанию, ни глубокой любви к их детям, а у меня она есть, она у меня есть, — хотелось ей иногда крикнуть в глаза всем этим напыщенным гусыням, чьим мужьям повезло в жизни больше, чем ее мужу. А они с Пал Палычем начинали все с нуля. Чтобы ребенок был истинным продолжением, его нужно воспитывать по своему образу и подобию, пусть Пал думает, что Андрей — его произведение, нет, прежде всего — ее, ее, только ее, она вкладывала в него свое время, всю себя, и не зря.
Читать дальше