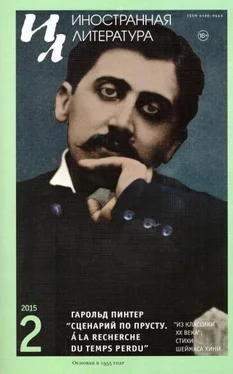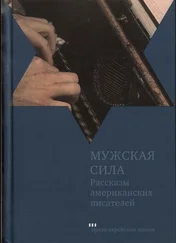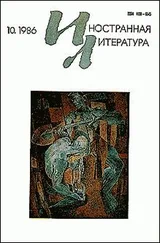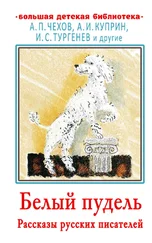Порядок в этой жизни устанавливают люди, а не свиньи. И неважно, для животных или для самих себя. Кто не слышал о Спарте, в которой жизнь людей была лишена всякого иного смысла, кроме войны и деторождения, так что мужчины ничем не отличались от боевых петухов, а женщины — от свиноматок? Хотя эти животные весьма своеобразны, я уверен: они с удовольствием согласились бы на более прозаическое существование. Увы, никто не спрашивает их мнения, животные — всего лишь животные, а люди — всего лишь люди, и изменить свою судьбу не в силах никто.
Я бы хотел рассказать об одном моем знакомом кабане, который несколько отличался от всех остальных. Когда я встретился с ним в первый раз, было ему года четыре, может, пять, и должен он был по нашей, людской, задумке стать боровом, однако вырос безобразно черным и тощим. С двумя сверкающими точками глаз. Проворный был до того, что дал бы десять очков вперед горному козленку: одним прыжком одолевал забор загона и, как заправский кот, мог запрыгнуть даже на крышу. Поэтому редко когда он сидел с прочими свиньями в заточении — предпочитал гулять где захочется. Он стал нашим — вчерашних студентов — любимчиком, и вовсе не безответно: никого более не подпускал он к себе ближе, чем на три метра. Как я уже сказал, должен он был стать боровом, однако, даже если бы вы попробовали приблизиться к нему со своим ножом для оскопления хоть бы на несколько метров, он и тут бы разгадал ваши планы, издал бы пронзительный визг — и был таков. Я кормил его кашей из рисовых отрубей, и только когда он, наевшись, отходил от миски, я шел кормить других свиней. Другие свиньи завидовали ему и бранились на своем поросячьем языке, глядя на него, так что нас с ним со всех сторон окружал недовольный хор сотен поросячьих голосов. А нам было все равно. Оттрапезничав, он вспрыгивал на крышу загона и лениво грелся на солнце или подражал звукам, населявшим наш с ним мир. И машине, и трактору, и много чему еще, да так точно, что порой было не отличить. Бывало, он куда-то пропадал, и я целый день его не видел. Наверное, бегал в соседнюю деревню искать себе подружку. У нас, конечно, тоже были свиноматки, запертые по загонам, растерявшие всякую форму от постоянных родов, но никакого интереса для него они не представляли. Занятным он был малым, однако узнать его так, как мне того хотелось бы, мне так и не удалось. Может, оттого что виделся я с ним не столь часто, а может, по другой причине. Одним словом, всем нам он был симпатичен, всем нам импонировал его свободолюбивый дух, его привольная жизнь. Деревенские же идеализмом не отличались и считали нашего кабана «неправильным»; что уж говорить о руководстве, которое несносного бунтаря на дух не переносило. Но об этом я расскажу дальше. Сначала мне хотелось бы отметить, что я не просто симпатизировал этому кабану, я уважал его, как своего брата. Как я уже говорил, кабан мог подражать звукам, и, думаю, он мог бы овладеть и человеческим языком — вот уж тогда мы бы поболтали с ним по душам. Однако этой премудрости он так и не научился. Но разве это его вина? Людские и свиные голоса слишком непохожи.
А потом он научился подражать сирене — той, что была установлена на сахарном заводе, и это его новое умение сыграло с ним злую шутку. Сирена гудела в полдень, и одни рабочие сменялись другими, она и для нас была сигналом об окончании работы. Наш же кабан имел обыкновение в десять тридцать утра запрыгнуть на крышу загона и потрубить, подражая сирене. Заслышав сигнал, люди заканчивали работу и шли на отдых, ровнехонько на полтора часа раньше, чем положено. По правде говоря, я совсем не склонен думать, что это его вина, ведь его «сирена» все же отличалась от настоящей, но деревенские, все как один, утверждали, что никаких различий не находят. Наши руководители собрались по этому поводу на собрание, объявили кабана «тлетворным элементом», мешающим ходу весенней пахоты, и сошлись на том, что в отношении него необходимо применить «особые методы». Дух, каковым бывают пронизаны подобные собрания, я знал прекрасно, однако если под «особыми методами» подразумевались веревки и ножи для забоя скота, они меня ничуть не смущали: я-то знал, что против кабана эти методы бессильны. Наше руководство, похоже, тоже об этом знало, благо научено было горьким опытом: с кабаном не сладили даже собаки — он, носясь как торпеда, раскидывал их налево и направо. Поэтому были приняты беспрецедентные меры: политрук снарядил двадцать человек, вооруженных «пятьдесят четверками», заместитель политрука взял с собой более десятка человек с ружьями в руках. Вся эта братия стеклась к свиноферме с двух сторон с целью поймать кабана. Я же не знал, как мне быть: с одной стороны, исходя из наших с ним «братских» отношений, я должен был вооружаться забойным ножом и сражаться с ним плечом к плечу; с другой — это было бы верхом абсурда, ведь он в конце концов обычная свинья, да и не пристало мне идти с ножом наперевес на своих непосредственных начальников. Вот почему я остался наблюдать за происходящим со стороны. Произошедшее далее повергло меня в глубочайшую оторопь, которую я бы назвал наивысшей мерой восхищения — восхищения моим «братцем-кабаном». Он хладнокровно выступил против своих убийц, расчетливо встав на линии пересечения огня, так что люди политрука, начни они стрелять, непременно повалили бы людей заместителя политрука, и наоборот, а братец-кабан наверняка бы остался из-за своих малых размеров цел и невредим. Не лишая себя этого преимущества, кабан сделал несколько головокружительных рывков, нашел дырку в стене загона и пулей выскочил в нее.
Читать дальше