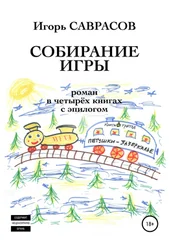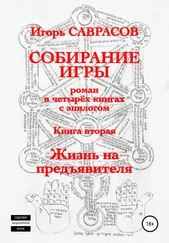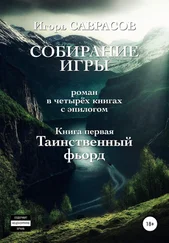Не так в Москве. Там коллективная атмосфера, общий дух, переживание и поддержка; там «Таганка» выстояла именно благодаря солидарности интеллигенции.
1977 V 22
Вернулся из Москвы. Дал себе слово — не лезть больше, хватит этого чувства долга, хватит растрачивать здоровье и нервы. Хотя когда сдвигаешься с места, в этом есть и плюсы — видишь свою жизнь как бы со стороны, какая она неглубокая, мало чего стоящая; какие потоки бурлят вокруг, какие кипят драмы и силы, а ты стоишь в своем мирке, и что-то там делаешь, и чувствуешь себя спокойно. Как не хватает нам этого централизма, этой включенности в события, какие мы периферийные люди, далеко отстоящие от существенных вопросов.
У Москвы есть свой сформировавшийся постоянный железный хребет, к которому должны клеиться (крепиться?) все, кто не поддался эрозии. Эдакий узкий центр остова, состоящий из крепко связанных между собой частичек, со стороны трудно туда попасть. Какая гигантская дистанция — что говорят с трибуны и что говорят за кулисами. <���…>
Все сильнее тревожит меня русская пресса. С беспокойством смотрю, для кого работаю и кому служу. Ведь единственный смысл — писать для лит.<���овского> читателя, а для всесоюзн.<���ого> читателя — ерунда, камнем идет на дно. <���…>
После долгих и болезненных усилий диссертация возвращается в Литву, и снова начнется сказка про белого бычка. <���…>
1978 V 17
Очередная бессмыслица — подготовил еще одну книгу статей «Литовские поэты ХХ века». Испытал большое разочарование, почти безнадежность. Столько трудов, столько страданий, столько попыток протолкнуть ценности литовского слова, а через пятнадцать лет выясняется, что ничего не было. Сам ход мысли весьма ординарен, аргументация социальная, подход чересчур марксистский. Вообще непонятно, за что меня травили. Нет даже глубокого переживания самой поэзии, а только возвышенно-эмоциональное комментирование. Нет никаких серьезных интеллектуальных концепций. Статьи слишком эмпиричны, все рассматривается, всего касаются, но глубоких зацепок нет. То, что в те времена казалось смело, непозволительно, само собой разрешилось. И теперь ты машешь кулаками после драки. А еще страшнее — нет стилистической культуры. Совершенно нет лейтмотивов. Возможно, вся моя ценность крылась в критическом разборе, но теперь уж этого не вернешь. Не достиг я свободы письма, осталось много скованности, испуга, приспособленчества, а главное — излишняя литературность. Заметил болезненный изъян — обызвествление мозга, он неспособен впитать новую информацию, вертится все в тех же мыслительных схемах, понятиях, приемах. Возможно ли еще сломать эту закоснелость? Надо пытаться, но с ужасом замечаю, что с меня все как с гуся вода. Видимо, я был призван на борьбу. Перечитал Чернышевского. Как же мы притихли, как далеки от реальности, от открытого мышления.
1979 I 10
Опять новый год. Что принесет он? Снова брести сквозь бумагу. Снова спешка, и снова не будет времени сосредоточиться, понять, куда идешь, что делаешь. И так, наверное, до последней точки будет все недосуг. Надо бы мне обдумать, что делать дальше. По идее, нужна серьезнейшая методологическая перековка, а то крутишься все в том же колесе психологизированного литературоведения. Но вечно некогда, а точнее, нет внутренней необходимости. Для этого необходимо существенное обновление, переучивание по самой сути, а на такой подвиг не хватает сил.
Напечатана едва ли не лучшая моя статья о поэзии [167] Скорее всего, «Нужна ли стихотворению поэтичность?» // «Literatūra ir menas», 6 января 1979.
. Она была написана сразу же по окончании диссертации. Тем самым, пролежала лет восемь. Теперь я уже вряд ли написал бы такую статью. Там есть ярость, есть смелость, есть категоричность. Сейчас уже разве найдешь в себе такое? Уже появился инстинкт самосохранения, я уже не посмел бы так кричать. Все-таки и меня коснулась эта порка, хотя кому-то может показаться, что я неприкосновенный. Но это неважно. Важно было бы обрести «мышление по существу», не метаться, а чувствовать суть, чувствовать истинность. А сейчас все равно остается дилетантское скольжение. А где эта суть? Она кроется не в литературе, а в чем-то еще, в человеческих ценностях, переживаниях, отношениях. Но такой подход выработать сейчас трудно, мы бежим от ясных и категоричных решений, не хотим иметь четкое мнение, скрываем сами от себя свои установки. И так во всей нашей литературе. Поэтому нет истинности, нет страсти, ведь какие-то существенные вещи вытеснены из сознания. И литература строится из литературы, из изворачивания, жульничества с самим собой, из вынужденного краснобайства, которое есть не литературная манера, а просто способ существования, способ мышления, способ приспособления. <���…>
Читать дальше
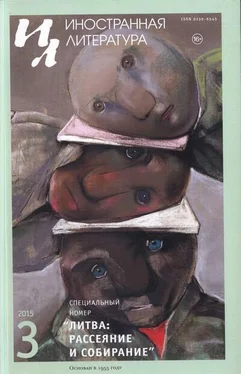
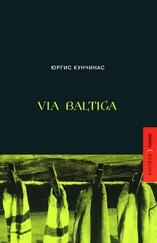

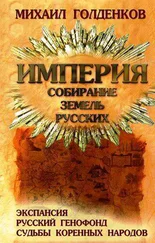



![Юргис Извеков - Битва гигантов [litres самиздат]](/books/437556/yurgis-izvekov-bitva-gigantov-litres-samizdat-thumb.webp)