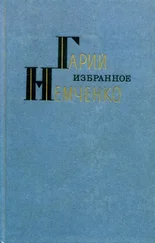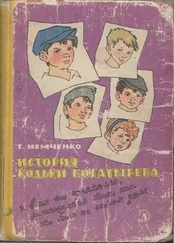— Уф, знаете, как сразу тепло.
Я невольно прищурил глаз, улыбаясь ему, — ишь, теоретик.
— Ну, а в дневнике-то у тебя как? Терпеть можно? Или сплошные двойки?
— Да нет, как сказать.
— Одни пятерки, что ль?
— Да нет, не одни, но есть. — И тут же вздохнул: — Верней, были. В той четверти. А в этой не было.
— Что ж ты так?
Он снова ответил, не вдаваясь в подробности:
— Так получилось. — Помолчал немного, а потом словно решил-таки досказать: — Бокс много времени отнимает, вот в чем беда. А бросить его я не брошу.
И лицо у него стало строгое.
— Это ты правильно. Ни в коем случае не бросай.
Сам я бросил. И чем дальше, тем обиднее почему-то об этом мне вспоминать.
А начиналось так хорошо. В новом здании университета на Ленинских горах у нас был прекрасный зал, и занимался с нами не кто-нибудь, а Виктор Иванович Огуренков, тренер сборной страны, и ребята из сборной, когда съезжались в Москву перед поездками за границу, работали у нас в зале, и тогда тут было на что посмотреть. Нет-нет, время то было замечательное, жаль, что его нельзя повторить, нельзя прожить заново.
У меня вроде бы получалось, и раза два или три Виктор Иванович проворчал что-то такое, что можно было понимать как похвалу, а потом произошла такая штука: на тренировке у меня украли часы.
Как-то после разминки я на минуту вышел из зала, зачем-то заглянул в раздевалку и тут увидел, как дверцу моего шкафа закрывает рыжий высокий парень, — он стоял еще без перчаток, только ладони были перебинтованы. Тогда-то я не придал этому значения, ни о чем таком не подумал: может быть, человек ошибся, да мало ли! В те счастливые времена я был яростно убежден, что одно только слово «московский» уже как бы является надежной гарантией против всего дурного, иначе и быть не могло, а как же — здесь, в стенах университета, собрались самые достойные, и все они вместе — это тоже своего рода сборная, и это чудо, что в нее вдруг попал и я…
И когда я заметил рыжего около моего шкафа, мне и в голову ничего не пришло. Только потом, когда пропажа обнаружилась, тот миг увиделся мне как бы заново, и как в зале кино когда смотришь фильм второй раз и замечаешь уже гораздо больше подробностей, так и я теперь уловил, теперь припомнил, что, увидев меня, рыжий как-то странно сжал ладонь…
Не знаю, что я сделал бы, если бы это дошло до меня сразу, но как обвинить человека в воровстве задним числом?
Вот они, ладные эти ребята, уже одетые после душа, затягивающие галстуки, поправляющие виски, — влажные волосы ровно расчесаны, и у каждого по тогдашней моде — кок, и от всех прямо-таки пышет чистотой и здоровьем. И вдруг подхожу к ним я — в тюбетейке, которую вынужден носить, потому что иначе прическа моя тут же распадется, как плохо сложенная копна, и с прыщиком на подбородке, в черной вельветке на молнии и в широченных брюках.
Я вообще заикаюсь, но, допустим, мне удается внятно произнести:
— Ты взял мои часы — отдай.
Все лица уже повернуты к нам. «Слышали, что он сказал?» — сощурившись, спрашивает рыжий. Плотная стенка вокруг меня смыкается. «Что тут происходит, молодежь?» это Виктор Иваныч. «Он говорит, у него украли часы!» — «Эй, парень, — скажет Виктор Иваныч, — а ты перед тем, как сказать, подумал? На кого ты хочешь поклеп возвести? На одного Динковича или на всю секцию? А может, и на… ты подумал, где ты учишься?»
А я был тогда, и правда, парнишка не очень испорченный, и ночью, когда я ворочался на своей койке в общежитии на Стромынке, все представлялось мне таким образом, словно, подозревая Динковича, я невольно замахивался и на наш высокоглавый университет, и на светлые идеалы, и еще на что-то чуть ли не самое святое.
На следующую тренировку я пришел с тяжелым сердцем. А у Динковича заболел партнер, мой тоже почему-то не появился, и в спарринг Виктор Иваныч поставил нас вместе.
Мне было стыдно и за Динковича, и за себя, и за весь белый свет, я мучился и пропускал удары, а он бил и бил без промаха, и, перед тем как все закрывала тяжелая его кожаная перчатка, в совиных глазах у него я каждый раз ловил белые вспышки какой-то непонятной мне дурной ярости.
Конечно, это была слабость — на секцию я больше не пришел.
А ты ходи, мальчик, ходи — может быть, и я тогда устоял бы, если бы в спортзал впервые попал не в восемнадцать, если бы запах пропахшей потом кожи на перчатках вдохнул бы раньше и раньше ощутил все то, что я, кажется, так ясно ощущаю и сейчас — и прилипшую к телу майку, и мокрый свой подбородок на горячем плече, и боль в скулах от тугого удара в челюсть, и солоноватый привкус во рту, и шнурки, которые вдруг хлестнут по щеке, и тугую резинку на поясе, все!
Читать дальше