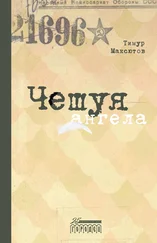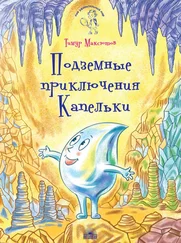И рыжий он оказался, почти рыжий – живописцы- современники приглушали яркость его волос, добавляя в масло золотистую охру вместо апельсинового сурика – может, из-за поверий о несчастливости рыжих, а может, пигмент был дешевле или легче добывался. Хотя и сохранилось-то всего три его портрета, для человека его времени и положения – ничтожно мало. А для дагерротипов он не сидел – один есть, но посмертный, где его самого в оставшейся на снимке плоти уже не было, весь вымылся страданием и смертью, оставил только маску, неровные черты, заострившиеся скулы, скорбно искривленные губы.
Милена подлила из самовара чаю в остывшую уже чашку, глаза опустила, стараясь сильно не пялиться. Но сердце так и бухало в груди – первая встреча, через столько ей пройти пришлось, чтобы оказаться здесь, сейчас, в этом трактире, в этом уездном городе, в десяти метрах от него.
– Не поднести ли бараночек свеженьких-с? – поклонился Милене половой, совсем мальчишка еще, лет пятнадцати, но глаза уже цепкие, бывалые, в голосе – наигранная забота. – Или может блинчиков с севрюжкой? Дуете и дуете пустой чай… И в нумер вчера ничего существенного не заказывали. В чем душа-то держаться будет, барыня?
Милена сглотнула – блинов хотелось ужасно, но покачала головой. Нет.
Она здесь и так уже раздалась за месяц по ресторанам и тавернам. Перед отправкой диета была очень жесткая – полгода на диетических таблетках и мандаринах, а здесь было все так дешево, обильно… так вкусно. Но нет, нет, ничего еще не случилось из спланированного, нельзя расслабляться, нельзя забывать, кто она и зачем здесь.
– Может, попозже, – пообещала она мальчишке.
– Эй, гарсон, мальчик, как тебя… Анисий? Еще вина сюда! И не кислятину, как эта вот бутылка, а поприличнее, послаще, как пред- пред- предыдущая… Что там было?
Милена снова вся растаяла, сделала себе внутреннюю пометку – вот первый раз, когда она слышит его голос. Она ожидала, что тембром он будет ниже, бархатистее, более мужественным. Возможно, что услышит она его читающим стихи. Ну, или говорящим ей что-нибудь особенное, например: «Весь вечер не могу от вас глаз оторвать… Жэадмир, мадмуазель… Мы не представлены, но…». И тут же одернула себя – полгода с ней психологи работали именно над «феноменом завышенных ожиданий». Нельзя ничего ждать от тех, ради кого ты весь свой мир позади оставил. Ничего они тебе не должны, и соответствовать не обязаны, и вообще…
– Вот! Молодец, мальчик, на тебе гривенник. Нормальное вино, амбройзи, господа, подставляйте бокалы!
– Дмитрий Сергеевич, да мне хватит… Через два часа в полку надо быть… Нет-нет, довольно мне, – говорил высокого роста офицер, кудрявый и краснощекий, с густыми усами, которые на молодом, чуть детском его лице казались приклеенной деталью маскарадного костюма.
– Пей, Николаев, пей, не увиливай! Знаешь ведь поговорки наши старые? «Как пьян, так и капитан, а как проспится, и свиньи боится». Так что пей, друг!
– Это ты к чему сказал, Батышев? – краснолицый усиленно искал подвох во фразе. – Ох уж поговорки твои. Допоговариваешься…
Милена отхлебывала свой чай маленькими глоточками и думала – как же все хорошо, гладко идет, как фирма и обещала. А были сомнения, конечно были, много они чего с другими «декабристками» в сеточке обсуждали – и «на самом ли деле сохраняются документальные свидетельства благополучного прибытия» и «что именно брать с собой» и «принцип самосогласованности Новикова – противоречит ли он теории временной неопределенности Сюэ» и «тошнит ли в темпоральной капсуле» и «стоит ли убирать лазером все волосы с тела, или это может вызвать ненужные вопросы».
Про настоящих декабристов и декабристок Милена из школы помнила мало – засели в памяти чьи-то грустные глаза с карандашного портрета, странная фамилия Муравьев-Апостол, строчки Пушкина про обломки самовластья – ну и общая идея оставить все, что у тебя есть и поехать за любимым в Сибирь, «убирать снег – весь? – да!», хотя это, кажется, было уже про другое.
Оттуда, наверное, слово «декабристка» и вытащили, когда стало понятно, что вперед в прошлое – дорога в один конец, что назад в будущее по той же струне никому не вернуться, а следовательно ценность у технологии может быть почти исключительно коммерческая. Сначала подавалась идея как «неоромантизм» – всегда были и будут люди, для которых прекрасный идеал остался в прошлом, которые «поздно родились». Слишком поздно, чтобы биться на мечах, слишком поздно, чтобы пожить среди могикан, слишком поздно, чтобы стать пиратом и удирать по волнам от английского боевого фрегата, задыхаясь от адреналина и пушечного дыма. И вдруг прошлое распахнулось и невозможное стало достижимым, хотя и дорого достижимым, очень-очень дорого. Первой покинула наше время вдова-миллионерша Юстина Джонс, как оказалось, всю жизнь мечтавшая пожить в наполеоновскую эпоху и к тому же влюбленная в самого Бонапарта. Много было споров, интервью, прямого эфира, таблоиды с ума сходили. Конечно, и до того были добровольцы, и было компании «Рекорридо дель Темпо», что показать и чем рекламироваться – письма, дневники, старинные газетные вырезки, причем самые внушительные, конечно, с «было», извлеченным из капсул темпорального стазиса, и «стало» – широко всем известный портрет дамы в бонапартовском дворце, оказавшейся Юстиной – с тяжелыми кудрями, складками шелкового халата и редкого безобразия левреткой под мышкой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Тимур Максютов Зеркальные числа [сборник litres] обложка книги](/books/394925/timur-maksyutov-zerkalnye-chisla-sbornik-litres-cover.webp)
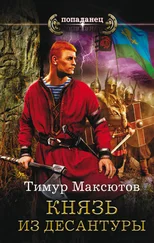
![Тимур Максютов - Нашествие [litres]](/books/33339/timur-maksyutov-nashestvie-litres-thumb.webp)
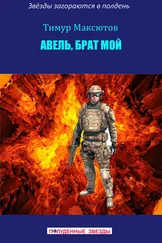
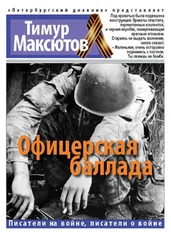
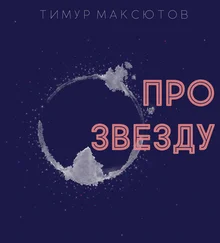

![Александр Матюхин - Зеркальный лабиринт [сборник litres]](/books/396821/aleksandr-matyuhin-zerkalnyj-labirint-sbornik-lit-thumb.webp)
![Лариса Бортникова - Зеркальный гамбит [сборник litres]](/books/402212/larisa-bortnikova-zerkalnyj-gambit-sbornik-litre-thumb.webp)
![Тимур Максютов - Чешуя ангела [litres]](/books/435628/timur-maksyutov-cheshuya-angela-litres-thumb.webp)