Парни хлопали меня по плечу и отводили глаза. Они жалели меня, считая, что Флот издевается над убогим: ну как можно было засунуть на пилотский факультет несчастного, не способного коммуницировать через модем? Они бы еще безногого на велосипед посадили, скоты!
Вереницы данных, которые поступали им напрямую в мозг, мне приходилось вылавливать на дисплее или в блистере шлема. Я тупо не успевал, захлебывался. Это было невозможно, как невозможно залить Тихий океан в пакет из-под кефира.
В ту ночь я написал и положил в тумбочку рапорт о переводе меня куда угодно – в землекопы, в инвалидную команду, на мясные консервы.
Спал я плохо. Где-то недалеко бродил отец в грязной майке, скребя волосатое брюхо, и хохотал:
– Ублюдок! Такой же неполноценный урод, как мать.
Я сидел в железной бочке, пахло ржавчиной и плесенью, а сочащиеся мерзкой влагой стенки выросли до неба и закрыли звезды. Под ногами хрустели обломки фрегата «Отважный».
– Артем, вставай.
Дневальный тряс меня за плечо.
– Тебя вызывают. Давай живее.
Я брел по проходу, тер лицо, стряхивая остатки гнусного сна. Казарма храпела, стонала, чмокала губами – как большое животное, уставшее и несчастное.
В дежурке нетерпеливо мигал зеленый глазок вызова. Взял наушник: в нем бродили какие-то вздохи и всхлипы, будто в эфире ворочался сонный кит.
– Курсант Воронов, слушаю вас.
Издалека, искаженный и прерывающийся, возник девичий голос – незнакомый и родной одновременно.
– Артео-ом… меня? Слыши…
– Алло! – я прижал наушник, сердце вдруг заколотилось, – алло, кто это?
– Ты чего, не узнал? Это я, Ася.
Она что-то говорила про поломанную младшими балбесами сирень – ну, помнишь, белый куст, у столовой? О ремонте в учебном корпусе. О том, что ее оставили в интернате, пока что нянечкой, но вот осенью закончит курсы, получит сертификат, и тогда.
– Погоди!
Я ударил себя по щеке и поморщился – нет, не сон.
– Погоди. Как ты дозвонилась? Это же служебная линия, засекреченный коммутатор. Как ты вообще узнала, куда звонить?
Она рассмеялась.
– Просто захотела услышать твой голос, остальное неважно. Мне кажется, тебе это было нужно сегодня. Знаешь, мне надо бежать, там новенькая девочка, трудная. У нее синдром Везира, плачет все время, боится темноты. Ты не обидишься?
– Да. То есть нет. Не обижусь.
– Вот и славно. Помнишь того зайца, по имени Артем? Ты еще говорил, что у зайцев тело не приспособлено летать, кости не полые и вообще, никакие крылья не помогут. Я еще сильно на тебя обиделась. Так вот, дело совсем не в крыльях. Понимаешь, просто он очень захотел в небо, и поэтому полетел. Бабочка ведь совсем не знает законов аэродинамики, понятия не имеет о подъемной силе. Она просто хочет – и летит. Понимаешь?
Связь прервалась.
Я вышел из дежурки. Дневальный дрых за столом, положив вихрастую голову на руки.
Разбудил его:
– Откуда звонили? Кто соединил?
Он зевнул:
– Ну, чего ты орешь, Воронов? Никакого с тобой покоя. Звонили, откуда надо. Назвали пароль. Я тебя и поднял.
– Какой пароль? – растерялся я.
– Какой-какой. Такой. Обыкновенный пароль, на текущие сутки. Все, отвали. Спать иди.
Я не заснул, конечно. Под утро встал. Порвал рапорт – тщательно, на мелкие кусочки, и смыл в унитаз.
В кабине глайдера я закрыл глаза, вспоминая ее голос. Потом отключил подачу информации на блистер.
Я не смотрел на дисплей – я смотрел в небо. Я очень хотел летать.
Мой корабль – не набор железяк и пластика. Мой корабль – мое тело. Бабочка не думает, как ей взмахнуть крыльями – она просто порхает.
Я прошел трассу. После финиша открыл фонарь и слушал, как чирикают в березняке птицы. Ко мне бежал инструктор с круглыми глазами, размахивая секундомером.
Я показал лучшее на курсе время.
* * *
Не знаю, о чем рассказывать дальше.
Сутки на Меркурии длятся две трети планетарного года, ночная сторона успевает сильно остыть. Когда приходит раскаленный до полутысячи градусов день, линия терминатора взрывает поверхность: все осевшие и замерзшие соли, водяной лед и прочее мгновенно вскипает и испаряется. Там вообще было нелегко. Светило – огромное, на полнеба – казалось, жгло сквозь многослойную броню. А постоянные бури и цунами солнечной короны убивали датчики и гробили радары, выжигали позитронные мозги бортового компьютера. Тогда, после аварии, я впервые понял, какой это дар – думать своей головой, не завися от электроники. Я проторчал в кресле пилота тридцать часов подряд, не вставая, не отрывая рук от штурвала. Растерянный командир крейсера сам подносил стаканы с водой и забирал бутылки с мочой – у меня, сопливого стажера. Мы выкарабкались. А пальцы еще несколько часов не разгибались; врач массировал их и кормил меня с ложки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Тимур Максютов Зеркальные числа [сборник litres] обложка книги](/books/394925/timur-maksyutov-zerkalnye-chisla-sbornik-litres-cover.webp)
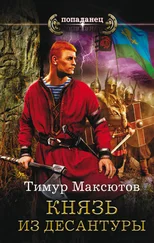
![Тимур Максютов - Нашествие [litres]](/books/33339/timur-maksyutov-nashestvie-litres-thumb.webp)




![Александр Матюхин - Зеркальный лабиринт [сборник litres]](/books/396821/aleksandr-matyuhin-zerkalnyj-labirint-sbornik-lit-thumb.webp)
![Лариса Бортникова - Зеркальный гамбит [сборник litres]](/books/402212/larisa-bortnikova-zerkalnyj-gambit-sbornik-litre-thumb.webp)
![Тимур Максютов - Чешуя ангела [litres]](/books/435628/timur-maksyutov-cheshuya-angela-litres-thumb.webp)


