Тут урядник подоспел, глаза выкатил.
«Аккуратно вскройте, – сказал. – Были у нас месяц назад ученые из Императорского фонда естественных наук, велено диковины морские найденные в бочках спиртовать и в Санкт-Петербург отправлять. Там кунскамера есть, выставляют гадость всякую, чтобы удивительно было. Младенцы есть хвостатые, куренок с двумя головами. Если у нас тоже чего будет, может, премию выпишут».
И усы вытер, фуражку поправил. Народ зашептался про то, как от Иван Семеныча уже месяц каждый день спиртом разит, видать, ученые много для диковин оставили. Егор Селиванов с ножом над покойницей склонился, лицо перекошенное, не дышать старается – ветер с приливом с моря пошел, от смрада многим на берегу поплохело сразу. Чирк ножом – а плоть мертвая чуть ли не сама разваливается, а оттуда вода морская с зеленью да чернью.
«Глубже кромсай! Да плашмя поверни! Ровней, будто порося режешь!» – уж советов Селиванову понадавали, как только выдержал, не послал всех скопом к черту в срам. Пластанул еще раз – и всем на берегу видно стало, как надутый живот разошелся, будто сугроб стаял за мгновение – сполз в сторону и растекся. Селиванов распрямился и назад попятился, в море. Глаза безумные, нож уронил в прибой – а хороший у него нож был, из обломка сабли турецкой. Тут вся толпа вперед подалась, кто-то из баб закричал в голос, Маришка без чувств таки упала, выдохнув, хорошо баб Люба, повитуха, подхватить ее успела. Мужики закрестились, заохали, кто-то и лицом позеленел.
В разверстой утробе лежал, дергая кулачками, младенец, живехонький, будто и не было на нем холодной гнилой слизи вместо горячей материнской крови. Веки припухшие закрыты, кожа розовая, волосы мокрым темным пухом к голове прилипли. Пуповина от него шла сероперламутровая, живая, а с середины черная становилась, в мертвую утробу врастала.
Урядник наш крякнул, рот открыв, да воздух хватал, как карась на берегу. Селиванов, пятясь, о камень запнулся да в воду плашмя плюхнул, тут же сел, тяжело дыша.
«Как же это? – сказал. – Чего ж это? И теперь как?»
Словно услышав его, младенец дернул головенкой, глаза открыл, кашлянул раз и другой, вода у него черная изо рта полилась. А потом заорал как все новорожденные орут – не то котенок мяучит, не то чайка неладное почуяла.
Маришка очухалась, своего младенчика к груди прижала, он у нее слабенький-то совсем родился, поговаривали, что не жилец. Баб Люба когда по гостям ходила, сплетничала, что если Василий из плаванья вернется, а Маришка ему сынка долгожданного на колени не положит, то и пришибить может запросто. Он-то ее замуж брал – пятнадцати ей не было, а уже два раза скидывала, не доносив, Василий злился.
«А мальчонка-то чахлый, не быть добру,» – говорила старуха и прихлебывала чай из блюдца, качая головой.
А тут найденыш страшный запищал – и у Маришки враз рубаха на груди намокла молоком, а губы затряслись. Ребеночка к себе прижимает, с места не двинется, как заколдованная. Тут баб Люба ее обняла и повела с берега в дом, что-то приговаривая. Народ к Ивану Семеновичу повернулся, молча все уставились и стояли ждали, что скажет – как-никак власть.
– Экая… – начал урядник, запнулся. – Нет, – сказал, – без спирту тут нам никак не обойтись.
Мужики кивнули, соглашаясь, из баб кто-то охнул, Наташка, мельникова жена, руками всплеснула.
– Что ж вы, – говорит, – звери, живого младенчика спиртовать собралися? Уж тогда на сквозняк его положите, что ли, да водой полейте… – и осеклась, на ребенка взглянув, как он в ледяной гнили лежит, живехонький, и орет, покраснев от натуги.
Урядник распрямился, усы поправил, глаза заблестели. Воздуху в грудь набрал, аж надулся. Нет из растерянности лучшего выхода, чем на ком-то зло сорвать и дураком выставить.
– Ты что, баба, дура совсем? – заорал, – За какого душегубца меня принимаешь? Иди, тетеха, козу подои да принеси молока теплого. А спирт – это для нас. Бери, Селиванов, найденыша, пуповину режь и пошли, показания записывать станем. А ты, ты и ты – утопленницу к скале оттащите, да накройте мешком каким. Батюшку Милослава зовите, пусть с погребением решает, да на предмет бесовщины думает…
Младенец тем временем нашел свой кулак и замолчал, сосредоточенно его губами плямкая. Побледнел весь, от холода дрожать стал. Селиванов его поднял за плечи, как зверька – а головенка назад валится, не держится. Бабы заругались, чтоб темечко поддержал, а он их и не слушал – пуповину резанул, нож сильно дернув, младенец заорал опять, а кровь полилась красная, живая. Рубаху с себя снял, перекрестился, завернул пищащую диковину да вслед за урядником понес по узкой тропке от моря, вверх, мимо заросших донником и васильками кочек да распорок для сушки сетей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Тимур Максютов Зеркальные числа [сборник litres] обложка книги](/books/394925/timur-maksyutov-zerkalnye-chisla-sbornik-litres-cover.webp)
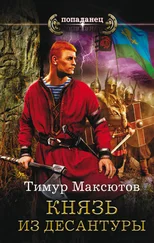
![Тимур Максютов - Нашествие [litres]](/books/33339/timur-maksyutov-nashestvie-litres-thumb.webp)




![Александр Матюхин - Зеркальный лабиринт [сборник litres]](/books/396821/aleksandr-matyuhin-zerkalnyj-labirint-sbornik-lit-thumb.webp)
![Лариса Бортникова - Зеркальный гамбит [сборник litres]](/books/402212/larisa-bortnikova-zerkalnyj-gambit-sbornik-litre-thumb.webp)
![Тимур Максютов - Чешуя ангела [litres]](/books/435628/timur-maksyutov-cheshuya-angela-litres-thumb.webp)


