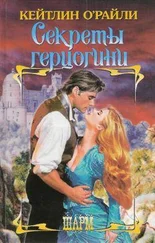Это как первый прилив адреналинового возбуждения, в котором я утонула, как в черных водах, два года назад – только наоборот.
Сидя на месте 14А, в лучах солнца, я окунаюсь в волну чистейшей безудержной радости. Невероятное ощущение. Такого со мной еще не было. Никогда. У меня кружится голова от одной только мысли: над облаками всегда светит солнце. Всегда. Каждый день на Земле – каждый прожитый мной день – был втайне ясным и солнечным. Даже когда в Вулверхэмптоне серо и тухло и дождь идет с утра до ночи, когда низкие облака давят на землю и вода пенится в мутных лужах и бурлит в сточных канавах, – наверху всегда солнечно.
Кажется, я сейчас ворвалась сломя голову, на скорости 600 миль в час, в самую красивую метафору моей жизни: если подняться высоко в небо, если пробиться сквозь пелену облаков, там, наверху, будет лето, бесконечное лето.
Я обещаю себе, что теперь до конца жизни буду помнить об этом. Вспоминать постоянно, хотя бы раз в день.
Мы приземляемся в Дублине, я еду знакомиться с Джоном Кайтом и понимаю, что опьянела от неба.
Джон. Он был невысоким и некрасивым. Круглый, как бочка, в затасканном коричневом костюме. Волосы невнятного цвета. Лицо чуть помято, руки трясутся как-то уж слишком заметно для человека двадцати четырех лет от роду – хотя, как он сказал мне однажды, уже потом: «По собачьим годам моей печени шестьдесят восемь». Но когда ветер дул на перекрестках, было видно, как у него под рубашкой колотится сердце, и когда разговор набирал обороты, было слышно, как звенит его разум – бьет, как часы. Он был притягательным, ярким, словно фонарь над входом в паб в ноябре: сразу хотелось туда войти и никогда больше не уходить. Он был хорошей компанией – лучшей компанией и единственной для меня, как стало понятно уже очень скоро.
Когда я увидела его впервые, он сидел в баре и спорил с каким-то парнем, который хвастался, что выкуривает по восемьдесят сигарет в день.
– Да кто их, на хер, считает? – спросил Кайт, поправляя манжеты.
Он выкуривал каждую сигарету так сосредоточенно – чуть ли не благоговейно, – словно все они делались вручную, с добавлением частичек золота, а не продавались на каждом углу пачками по двадцать штук.
Он вошел в бар – опоздав на час с лишним, – как верховный судья в зал суда. Это было пространство, где ведутся дела, и вместе с тем – театр людских сердец, где происходит все самое главное и где будут раскрыты все самые главные тайны, дай только время.
Он по-прежнему спорил с тем парнем:
– Друг мой, ты пахнешь, как человек, который выкуривает не больше пятидесяти сигарет в день. Для такого маньяка-курильщика, каким ты себя обозначил, ты, можно сказать, и не пахнешь вовсе.
Эд подошел и притронулся к его локтю.
– Джон, – сказал он. – «D&ME» уже здесь!
– Привет, – сказал Джон, кивнув в мою сторону.
– Это Долли, – сказал Эд.
– Привет… Герцогиня. – Джон обернулся, посмотрел на меня и внезапно включился в происходящее. Это была полная и безусловная вовлеченность. Как будто разом зажегся весь свет. Как будто кто-то врубил музыкальный автомат.
– Очень рад познакомиться, Долли, – сказал Джон. – А не хлопнуть ли нам по стаканчику джина?
У Джона была потрясающая улыбка – такая искренняя, настоящая. Когда он улыбался, начинало казаться, что всю свою жизнь он мечтал лишь об одном: сидеть со мной в баре, за этим столом, и разговаривать, и курить, наблюдая в окно за прохожими.
Он улыбнулся, когда я сказала, что я не пью и возьму себе колу.
– Но все равно спасибо…
Он рассмеялся, когда я сказала, что не курю.
– Долли, я тобой восхищаюсь, – сказал он, закуривая сигарету. – Ты охренительно цельная, светлая личность. Тут дело такое: когда начинаешь курить, тебе кажется, ты завел себе маленького симпатичного дракончика. Приручил сказочную зверюгу, и все, конечно, должны впечатлиться, какой ты крутой. А потом, лет через двадцать, ты просыпаешься с легкими, полными копоти и дерьма, в горящей постели и понимаешь, что дракон вырос – и сжег на хрен весь дом .
Он закашлялся – надрывным кашлем сурового волосатого мужика – в подтверждение своей мысли.
И мы пили каждый свое, чокаясь джином и колой, и Джон улыбался, пока его глаза не превратились в лучистые щелочки, и мы говорили, и говорили, и никак не могли наговориться: о семье, о сумасшествии, об «Охотниках за привидениями», о наших любимых деревьях («Если по правде, мне еще не встречались деревья, которые мне бы не нравились. За исключением липы. Липа – да, беспонтовая»), о собаках, о Ларкине и Толстом. О фазах Луны, и о бедных муниципальных кварталах, и о том, каково было впервые приехать в Лондон и устыдиться своих башмаков.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу