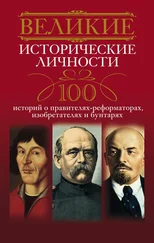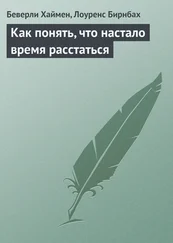Но вот он, Витёк, передо мной – веселится, смеётся. И я спрашиваю его мысленно: как ты живёшь? Как ты не сошёл с ума? Почему в твоих глазах, в твоих снах ежесекундно не захлёбывается та девчонка? Как ты ешь? Как ты спишь после этого? Неужели в твоей жизни не было совсем ничего дорогого и важного, утрата чего помогла бы тебе испытать боль и ужас? Неужели ты просто не знаешь, что есть такие чувства у людей?
Витёк смотри на меня, ухмыляется, просит ручку. Я вежливо улыбаюсь и даю ему и ручку, и тетрадь. Я диктую тему урока, Володя старательно выводит буквы, от усердия высовывая кончик языка, Витя пишет, пока ему не надоест. У нас всё как всегда, урок идёт своим чередом.
Я знаю, что кто-то из здесь сидящих сходит с ума от вечных заборов вокруг. Эти люди навсегда «двинутся», они не смогут жить на свободе: чтобы нормально думать, спать и есть, им будет нужен постоянный конвой и «колючка». Они вернутся сюда не только от глупости и нищеты. Им будет не хватать клетки. Бедные, сломанные люди.
Я знаю, что кто-то кается. Искренне, как он сам думает. Ходит в церковь, ходит на исповедь, соблюдает пост. Вера – его способ простить себя. Научиться жить заново. Здесь у веры особый статус.
Но ведь есть ещё Витя.
Виктор. Он жил среди людей. Он убил и не чихнул. Он живёт, отбывает свой срок, но ему плевать на Достоевского. На разлом души. На концепцию сильных и слабых. Он насилует и здесь – слабых, всеми униженных. Он пьёт чай. Он курит и смеётся рядом с одним из своих «корешей». Он здоровается, если у него хорошее настроение. И когда я смотрю на него, мне становится страшно. Не от того, что он совершил. Нет. Я снова и снова вспоминаю про «Преступление и наказание», про душевный слом, правда о котором была для меня аксиомой… И спрашиваю себя, глядя на Витька.
А есть ли вообще она? Душа?
Глава 19. Ни разу не Макаренко
В первую смену я вела уроки в тюряжке, во вторую – в своей прежней школе. Меня очень душевно попросили взять на себя заботу о самом безумном классе в параллели, где больше половины учеников были выходцами из средней Азии. Незлобные, в общем-то, ребята, только дурные совершенно. И это я сейчас обо всём классе.
После года разговоров спокойным голосом за неделю второй смены я осипла. И потом ещё недели полторы вела урок «на пальцах», а в случае откровенного «забивательства» на дисциплину злобно зыркала на детей, аки Цербер, и стучала изо всех сил рукой по столу. Потом голос вернулся. Я перестала закидываться эвкалиптовыми леденцами, но вопрос дисциплины по-прежнему стоял в классе остро. Даже учитель ОБЖ, военрук, сказал, что страдает, когда эти детки приходят к нему на занятия.
Как-то ученички меня особенно достали, и тогда я разразилась патетическим спичем. На тему того, что они не понимают своего счастья. Что нужно учиться и впитывать знания как губка. Что есть люди, которые в своё время не учились – и вот куда их это привело! То есть, рассказала про тюряжку. У детей во время моей речи глаза были большие-пребольшие, как в том анекдоте про гуманоида в кустах. «Вы что, правда работаете в тюрьме?» – спросил с придыханием один маленький чернявый мальчик. «Правда, – сокрушённо ответила я, – и те люди, что сидят у меня на уроках, не ведут себя так отвратительно. Потому что у них был шанс учиться – и они его упустили. А теперь пытаются нагнать утраченное время, но тщетно».
Шестой класс был потрясён. Они притихли, переваривая информацию, и в таком же шоковом состоянии ушли на перемену. Я торжествовала: наконец-то я смогла услышать звук собственного голоса посреди урока.
Торжество моё длилось ровно десять минут. Столько длится перемена. Выйдя в коридор, шестиклашки вновь унюхали дух свободы и с дикими криками брызнули во все стороны играть в догонялки. Где-то жалобно зазвенело закалённое стекло.
Мак Твен писал: «…в молодости сердца эластичны и, как их ни сожми, расправляются быстро», и я только что имела счастье в этом убедиться. Дети не стали задумываться о тяжёлых проблемах общества, они знали одно: прозвенел звонок – пора текать. В этом их бесспорное преимущество перед взрослыми: умение отсеивать ненужное, тяжёлое и не грызть себя за чужие горести.
После урока я купила ещё одну пачку леденцов для горла.
* * *
Двадцать девятого апреля неожиданно выпал снег. Да еще густой такой. И влажный. Мы, учителя, прошли КПП, зашли в дежурку, стоим, инструктажа ждем, греемся. А за большим окном представление. Между отрядами установлен высокий забор, да еще и с колючей проволокой. И вот «ребятишки» по разные стороны забора снежки лепят и кидаются ими – из отряда в отряд. Это у них, значит, снежки вслепую. Размер снежков неумолимо растет, один «зритель» завис на наружном крыльце, ведущем на второй этаж барака – заинтригован, чем все кончится. И такие бои – по всей колонии.
Читать дальше