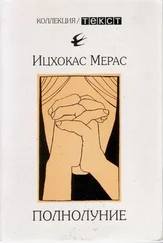Нет, Давид не пройдет.
Он заметил ее.
Остановился, посмотрел на нее.
Потом приблизился и шепнул что-то на ухо, как это принято здесь, в районе улицы Сен-Дени. Здесь все говорят шепотом.
Он спросил, и она ответила, тоже тихо.
Спросил цену?
Что она запросила?
Неважно.
Они поладили.
Это было, наверно, вечером или в ночь на Судный день, и они шли, брели, взявшись за руки и ступая босыми ногами по песку, поднимались в гору, туда, где стояло дерево, одинокое и потому еще более прекрасное, на вершине дюны, самой высокой дюны, ветвистое дерево, и луна светила, блестели звезды, потому что была безоблачная ночь, хоть и приближалось время дождей.
В тот день в Париже шел дождь.
Зарядил с утра.
А им было все равно, что шел дождь.
Они вернулись в гостиницу, в постель. И любили друг друга.
Она старалась забыть и забыла Сен-Дени.
Неважно.
Сен-Дени.
Его улица?
Он хотел, чтоб она увидела?
Увидела.
Ну и что?
Они любили долго, устали, и веки смыкались, лучше было бы не вставать, а так и спать до утра, но ему хотелось отпраздновать этот день, этот вечер, хотя, вроде бы, ничего особенного не было.
Или было?
Его борода была смешная, пегая, и она запустила пальцы в эту черно-бело-рыжую бороду и гладила его волосатые щеки, а он поворачивал лицо в одну сторону и целовал ей одну ладонь, потом в другую — и целовал другую.
Они сидели за столиком в крохотном бистро у моста Сен-Луи.
Она подняла глаза.
— Соскучился я, — сказал он шепотом, — истосковался… По человеку… просто по теплу человеческому…
— И я, — сказала она.
— Мы теперь будем вместе? Всегда? — спросил он.
— Если захочешь, — ответила она.
— А… то, что я… немец?
— Ты не немец.
— А кто же?
— Еврей.
— Потому… потому что я… у меня…
— Нет, — ответила она. — Глазами своими. Душой. Весь ты.
Он помолчал, подумал и рассмеялся: до того вдруг все стало просто.
Он — еврей?
Не немец обрезанный, а еврей?
Еврей в душе? Во всем? Весь?
Может быть…
А почему бы и нет?
Почему?
Она снова гладила его бороду.
— Счастливчик, таким родился.
Он схватил ее руку, до боли стиснул ладонь.
— Я действительно счастлив.
— И я, — сказала она. — Разве это запрещено?
— Нет, — ответил он. — Но мне не верится. Я все еще боюсь, не смею поверить.
— Не бойся. Почему мы должны бояться?
Они сидели за маленьким столиком, накрытым серой скатертью из грубого, небеленого льна со светлой кромкой.
И стояла бутылка, одетая в красный бархат.
А столик стоял на кухне, где все было белое — стены, холодильник, плита, раковина, только скатерть на столике была серой.
38.
Почему она лгала Маре?
— Изменяет, подлец, да?
— Изменяет.
— С разными или одну завел?
— Одну.
— Солдатку?
— Солдатку.
— Ты точно знаешь?
Сара не ответила.
— Ты видела ее?
Сара молчала.
— Приводил ее в дом?
Она смотрела на Мару, прямо в глаза смотрела, но видела не ее, видела сына, обнимавшего какую-то чужую, незнакомую ей солдатку.
А может, и знакомую, только, может, не помнит она, забыла?
— Ну скажи, скажи!
Но Сара молчала.
— Привозил ее с собой? В отпуск? Чтобы на кровати спокойно с ней поваляться? На свежей простыне? Она что — красивее меня? Моложе? Лучше? Блондинка? Рыжая? Крашеная, наверно, да?
— Не помню…
Она и впрямь пыталась, очень хотела разглядеть ту солдатку, с которой сын обнимался, но не могла разобрать ни черт лица, ни цвета ее волос. Солдатка как солдатка — все они одинаковые, похожие, совсем не как люди, солдаты и только. Солдаты.
— Солдатка, — сказала Сара.
— А форма на ней какая? — не унималась Мара.
Сара напряглась, увидела и ответила:
— Коричневая.
— Коричневая?!
— Коричневая.
— Врешь! — крикнула Мара. — Ты врешь! Коричневой формы не бывает! Такой нет! И не было никогда!
— Была, — ответила Сара. — Я видела. Была коричневая.
— Не было!
— Была.
— Не было, не было, не было!
— Была.
И Мара сдалась.
— Была, — тихо сказала она и отвела глаза. — Да, была такая форма.
Раковина была завалена грязными тарелками, их надо было все перемыть, но из крана стекали только редкие, мутные капли.
— Можно? — неуверенно спросила Мара, снова взяв бутылку.
— Да…
— И тебе?
— Да.
— Хватит?
— Да.
Выпили по глотку.
И еще раз выпили, не глядя друг на друга.
— Он жив, — сказала Мара, — я знаю! Я люблю его.
Она встала и вышла из кухни, оставив Сару, склонившуюся над столиком, с глиняной чашкой в руке.
Читать дальше