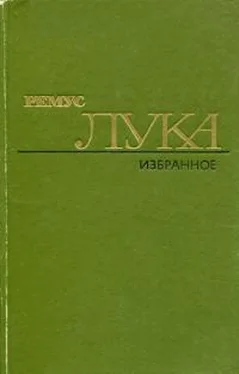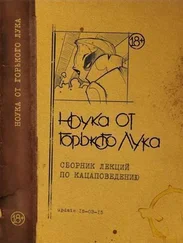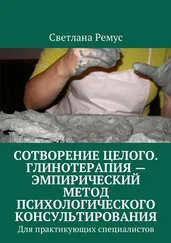— Смеешься? Да?
Ион не ответил и продолжал улыбаться.
— На! Пей!
Ион взял бутылку и опрокинул ее в рот, не переставая улыбаться.
— Нравится? А? Нравится мое вино?
— Нравится. Доброе вино.
— Ха-ха… Доброе.
Константин прошелся возле Иона и тоже прислонился к дощатой стене, обняв его за плечи.
— Эх, Ион, — начал он неожиданно мягким голосом, — ведь ты мне друг. Тебе я могу сказать: такое несчастье у меня, что ты и не поверишь.
— Я тебе верю.
— Эх, такое несчастье! Здесь вот болит. — И он приложил руку к сердцу.
— Знаю, что болит…
— Так уж и знаешь? Видишь — не пришла. А я звал ее. Сестру посылал за ней.
— Я же тебе говорил, что не придет.
— Ты мне говорил, а я все равно позвал.
— Я ведь говорил тебе: брось, не бегай за ней. Не нравишься ты ей, ну и пусть… Найди себе другую…
— Не нужно мне другой!
Крецу совсем не остерегался, что его услышат. Он находился на той мирной стадии опьянения, когда человек готов открыть свою душу любому, кто согласится слушать. Все остальные, видя, что он угомонился, отвернулись от них и начали говорить о своем, не обращая внимания на этот рассказ о всем известной любви. Константин продолжал жаловаться, моргая глазами и морщась. На минуту он умолк, тяжело вздохнул и снова заговорил:
— Ты мне друг, Ион. Давай мы с тобой вдвоем организуем здесь танцевальный кружок так, чтоб треск пошел. Фируцу пригласим и самых лучших плясунов. И чихали мы на их клуб.
— Нельзя.
— Почему нельзя?
— Я в клубе должен организовать кружок.
— В клубе, значит, организовать кружок. А меня почему не принимаешь? Что я, плясать не умею?
— Умеешь.
— Или я какой шелудивый?
— Нет. Ты не шелудивый, но принять — не примем.
— Почему? — Зеленые глаза Константина замутились, потемнели.
— Я же сказал тебе, что говорил с Мариукой, нельзя ли тебя принять, а она ни в какую.
— За бабами тянешься! Музыкантов приглашу, слышишь? Пошлем к чертям эту Ану Нуку. Неужели дура баба будет нами командовать?
— Она не дура. А тебе я сказал, что нельзя. Твой отец кулак.
— А с чего это он кулак?
— Так. Кулак он.
— А почему? Что он, как Нэдлаг, грабил?
— Как Нэдлаг, не грабил, а по-своему достаточно нагреб. Одни сыновья Пашка да Кукуета сколько на него спину гнули, а он не платил ни гроша, да еще и бил их. Ты мне друг, но про отца твоего ничего другого сказать не могу: кулак он, и все.
— Ну и пусть! Мне что за дело?
— Я говорил Мариуке, а она твердит: «Нет, он кулак». А раз так, то нечего тебе делать в клубе. Клуб для трудящихся крестьян.
Константин засмеялся, скривив рот.
— Это твоя жена говорила, дура-то эта?
— Это она сказала. Только нечего тебе ее дурочкой представлять. — И в сдержанном голосе Иона Хурдубеца прозвучала глухая угроза. Спокойно, но решительно снял он руку Константина со своего плеча. — Так она сказала, так оно и есть.
— Так и ты говоришь?
— Так и я говорю.
В мутных глазах Константина вспыхнуло бешенство. Но, опомнившись, он сдержался и тяжело перевел дух. Глухим, напряженным голосом Константин спросил:
— Тогда зачем же пришел ко мне на двор, если я кулак?
— Ты меня позвал, поэтому я и пришел.
— Ха? Я тебя звал? Черт тебя звал! — Константин кричал все громче. — Зачем пришел к кулаку?
Хурдубец изо всей силы сжал его руку и зашептал ему на ухо:
— Уймись, Константин, не затевай ссоры.
Константин вырвался, шагнул назад и, утвердившись покрепче на ногах, заорал:
— Ты меня не учи, голодранец, мамалыжник! Хочешь в друзья примазаться ко мне, к Константину Крецу? Ты, отродье Хурдубеца, который спит на мешке с соломой, потому что у него нет простыни для постели! И ты хочешь быть другом сына Крецу?
— Коли так дело оборачивается, я пошел.
— Иди! Сгинь с глаз моих, собака! Приходи, когда не в чем будет замешать мамалыгу! Я тебе сапог дам, замешаешь в нем.
Ион, который было направился к воротам, вернулся и, едва сдерживая гнев, громко сказал:
— Послушай-ка, Константин, ты пьян, и бить я тебя не буду. Но я понял, что в душе ты и есть кулак, как я тебе сказал. И больше ты мне не друг. Ошибался я, а теперь опомнился. Будь здоров и можешь сам тащить на горбу все, что тебе наложат голодранцы и мамалыжники!
Он повернулся и вышел со двора.
Константин, задыхаясь от ярости, бросился за ним с угрозами, но его догнали, остановили. Он долго ругался, бесстыдно изрыгая грязные слова. Стало смеркаться. Вечер окутал серыми тенями холмы и дома. Народ начал расходиться. Константин крикнул музыкантам, чтобы они играли, и принялся плясать, словно одержимый. Еще некоторое время танцы кое-как продолжались, потом разладились. Константин, усевшись на скамью, смотрел, как уходят то один, то другой, видел, как заторопилась за двумя другими женщинами Истина в своей широкой развевающейся юбке. Оставшись наедине с музыкантами, он начал ругаться. Вдруг ему в голову взбрела шальная мысль:
Читать дальше