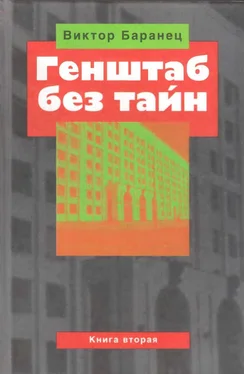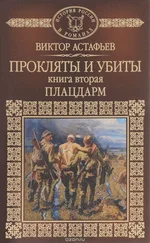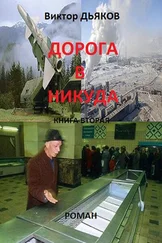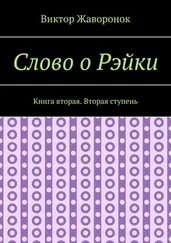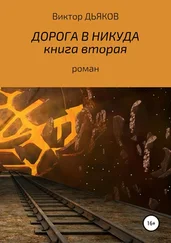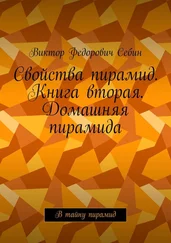Мне кажется, люди, формулировавшие эти цели, явно не соизмеряли их масштабы со своими скромными возможностями. Вряд ли они могли своими силами добиться сохранения целостности России, восстановления Советской власти, и уж тем более — устранить внешние угрозы безопасности страны.
Чрезмерный оптимизм политических формул СО распирал и его манифест: «Мы убеждены, что в условиях смутного времени, большой экономической и политической неопределенности офицерский корпус в силу его профессиональной выучки как никто другой способен принимать выверенные решения и добиваться его реализации с целью вывода страны из кризиса».
В период парламентских и президентских выборов 95–96 гг. Союз офицеров «делал все необходимое для объединения рабочего движения, политических партий, общественных организаций России коммунистической и патриотической ориентации в единый фронт народно-патриотических сил для победы единого кандидата».
Союз офицеров считал целесообразным создание объединенного координационного общественного совета из руководителей офицерских и других военных общественных организаций, что позволило бы преодолеть разобщенность офицерского корпуса.
После победы коммунистов на парламентских выборах 1995 года, по мнению руководства Союза офицеров, лидеров КПРФ «не покидала эйфория мнимой победы» (это уже попахивало завистливой склочностью). В СО считали, что «вопреки логике и здравому смыслу обособление от самых близких союзников мешало эффективно вести предвыборную президентскую кампанию». Терехов и сподвижники «неоднократно предупреждали Зюганова о недопустимости подобной тактики». В одном из документов СО говорилось:
«Такая позиция Союза офицеров была воспринята в штыки, рассматривалась руководством КПРФ чуть ли не оскорблением и посягательством на святая святых партноменклатуры — узкоклановых интересов ее верхушки».
Уже достаточно хорошо изучив лексику лидера СО Терехова, я узнавал его почерк. Явная переоценка политических масштабов своей фигуры и реального потенциала возглавляемой им организации часто мешала подполковнику быть объективным.
И яростные упреки руководства СО в адрес коммунистов вряд ли можно было считать состоятельными. Многие офицеры Минобороны и Генштаба, частей Московского гарнизона, часто встречавшиеся с представителями коммунистического штаба по организации президентских выборов 1996 года, не замечали со стороны активистов КПРФ недооценки работы в армии и, тем более, какого-то пренебрежения к офицерам, разделяющим левые взгляды.
Наоборот, перед президентскими выборами 1996 года было заметно повышенное внимание коммунистов к армии. Я сужу об этом хотя бы по тому, что представители ЦК КПРФ активно шли на контакты с генералами и офицерами центрального аппарата МО и ГШ, приглашали их на консультации во время разработки военной части предвыборной программы, просили подготовить аналитические документы, запрашивали сведения о настроениях в войсках.
У меня всегда было тяжко на душе, когда я сталкивался с разборками и взаимными обвинениями людей, в сущности принадлежащих к одному политическому направлению, но подходящих к решению задач различными методами. Взаимные претензии и обвинения, а тем более склоки — признак политического нездоровья любой организации.
Много раз мне приходилось бывать на собраниях Союза офицеров, слушать страстные речи Терехова и его сподвижников. Такие же речи в свое время звучали на собраниях «державников» Руцкого, сторонников Лебедя, Рохлина, Зюганова.
Для всех «оккупационный режим» был ненавистным, все одинаково его проклинали. Многие лозунги и идеи партийной и военной оппозиций были похожи, как инкубаторские цыплята. Отличались они лишь тем, что декларировались с разных политических колоколен.
Создавалось впечатление, что в России существует несколько сортов патриотизма.
Представителей Союза офицеров во главе с их лидером до сих пор можно видеть почти на каждой политической тусовке в столице. Они по-прежнему яростно проклинают режим и призывают соотечественников к «возрождению Великой державы». Кто против? Кстати, этот лозунг начертан на знаменах всех политических партий и движений, вышедших на предвыборную парламентскую и президентскую дистанцию.
И абсолютно ясно, что и на сей раз Союзу офицеров (как и гайдаровской, кириенковской, черномырдинской, немцовско-хакамадинской “демхамсе”) не суждено сыграть выдающейся роли в расстановке политических сил. Он — один из «актеров второго плана» на российской политической сцене, где ведущие партии играют коммунисты, яблочники, жириновцы, аграрии. А на подходе — сеющее панику в их рядах своей громкой мощью «Отечество — Вся Россия». Союзу офицеров предстоит нелегкий выбор — с кем быть? Примыкать к стану народно-патриотических сил или бросать шпаги к ногам новых триумфаторов? (которые не менее народны и патриотичны.)
Читать дальше