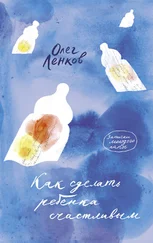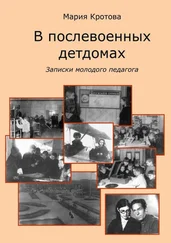Может быть, я и верно спал уже тогда вечером. Разве смела бы она сделать такое у меня на глазах? Уж лучше бы я действительно спал и ничего не видел. Может быть, это ее мысль разбудила меня, потому что она собиралась коснуться самого мне дорогого? Или — просто одно ее неосторожное движение?
Мама чувствует мой взгляд и поворачивает голову. Видит мои глаза. Ничего не говорит. Отворачивает голову обратно. Спокойно выпрямляется. Не говоря ни слова, кладет книжку в карман моей курточки. Вот и не было ничего. Все только сон. Все приснилось. Как в немом кино. Было и не было. Спокойно. Молча. Лампа ярко горит. Тишина…
Но боль во мне все сильнее давит на сердце. Она разворачивается, ее не сдержать.
— А-а… — говорю я тихо, нелепо, неожиданно для себя самого.
И она тогда возвращается. Она не выдерживает — взрослая женщина, моя мать. Она, наверное, тоже что-то чувствует и потому не может сдержаться. Может быть, и ей тоже стыдно?.. Разве можно было все это делать?
Она рвет торопливо карман, вытаскивает книжку:
— Ну что ты понимаешь в этом? Ты! Совсем ребенок! Что ты понимаешь в Лермонтове? «Посвящение». Грустный труд. Слезы. Моих очей. Чего ты сам-то здесь написал? Что ты написал про Марину?
Она мнет и листает страницы. Она даже читает:
И стан ее — так гибок,
прям и строен он,
Как гибок тополь и
как строен клен.
Зачем ты пишешь про любовь? Зачем ты говоришь такие слова? Ты еще ребенок! Что ты можешь понимать в любви! Ты же не понимаешь слов, какие говоришь!..
Она листает быстро страницы. Вот — она все говорит так и кричит на меня — вот! еще вот здесь! здесь!..
— Ну зачем это все ты написал?
Я слепну. Я уже отвыкаю плакать. Ненависть крутится во мне. Я сижу на кровати полураздетый. Я вскакиваю — и вырываю у нее книжку, прячу под подушку, укрываюсь с головой одеялом. Ну да, она права. Она взрослая. Может все говорить. Может все делать. Она отвела себе душу. Она всегда права, права, права!..
Боль стоит во мне. Ненависть к этой всегдашней и неотразимой правоте матери. Обида за то, что ей все можно. Обида за эту ложь и неправду. Не может так быть! Нельзя так делать! Нельзя никогда-никогда делать такое!..
Мне никак не уснуть. Проходит час, второй, потом начинается утро. Я говорю себе, что пора спать. Я считаю до ста и до тысячи, но сбиваюсь в счете, когда вместо цифры всплывает перед глазами синий квадрат под белой настольной лампой. Что она делает? Мысли бегут, цифры слетели в стороны, я задыхаюсь.
Я просыпаюсь утром по-необычному рано. Что-то случилось со мной. На глазах у меня слезы. Значит, я все-таки плакал ночью? Губы горячие. Я лежу, руки и ноги гудят. Что-то осталось перед глазами. Я пытаюсь вспомнить. Голова неподатливая. Что же я видел? Знаю только одно: это Марина, она была рядом. Я удивляюсь. Сейчас все исчезло. Гул в голове. Мысли быстро бегут. Я лежу ошеломленный. Это была Марина. Она…
Но разве это она сказала: «Зачем ты говоришь про любовь?» Кто-то другой сказал: «Что ты можешь понимать в любви! Ты же не понимаешь слов, какие говоришь!..»
И мне снова становится больно, потому что я вспомнил, что было вчера.
Он потом будет думать, как это было смешно: вот, учат мальчишек и девчонок отдельно в разных школах, а потом раз в году ведут их на вечер. Не только смешно: как-то стыдно, нелепо. И вот они ходят там на вечере. Смущаются друг перед другом. Краснеют. Мальчик боится взять девочку за руку.
Он будет думать об этом с легкой усмешкой, с печалью. Какие же они были дети… Он вот написал Марине записку. Она покраснела. А потом он подошел к Борьке Кривокалинскому и влепил ему по шее разá: просто так, ни за что, чтобы он знал… Потом был еще вечер, но она туда не пришла. Он видел ее только на лестнице, редко. Они учились в разных школах. Да и что бы у них могло быть? Он, правда, стал одно время еще больше думать о ней. Стихов он больше вообще не писал. Синюю книжку он запрятал так далеко, что она потом потерялась. И была еще рябиновая палка, которую он два года назад сам срезал на даче. ЛЮБИМОЙ МАМУСЕ ОТ МИШИ — было там выжжено увеличительным стеклом. Эта палка валялась где-то за шкафом, когда он про нее вдруг вспомнил. Он разломил ее пополам и сжег в печке, растапливая газетами.
Его уже не спрашивали в ту пору — кого ты больше любишь, папу или маму? Он не отвечал на такой вопрос и самому себе: он не задумывался, кого любит больше и любит ли вообще. Он даже не размышлял: что же для него радость, а что — горе? Все менялось: то, что уже прошло, он, казалось, совсем забывал, и оно для него вроде бы ничего и не значило. Он забыл, кажется, и ту историю с синей книжкой. Все у них с матерью потом было по-прежнему. Правда, раньше он мог лежать вечером в постели — свет погашен, темно, оба уже почти спят — и в темноте, закрыв глаза, может быть со смущением, запинаясь, но все же рассказывать маме про себя, про Вовку Трофимова, о чем он сейчас думает, что они делают в школе, — такого теперь уже не было. Он замкнулся, стал подозрительным. Когда потом он начал вести дневник, то тоже сначала прятал его — в самый дальний угол стола, хотя со временем потом перестал все-таки прятать: надоело, он устал, нельзя же вечно скрываться. Дневник тогда открыто лежал, и он, листая его, вспоминал, просто не мог не думать, что вот она, может быть, все читала — все, что там написано. Сомнения такие долго терзали его. И если бы это были лишь подозрения. Она, конечно, читала. Боже мой, женщина. Разве устоит ее любопытство перед таким искушением: сын что-то пишет. Она читала и даже не могла сдержаться, не показать, что вот она читала и она что-то знает. Ей хотелось показать перед другими (гости приходили, ее подруги) и даже вроде бы перед ним: вот что я знаю! вот какой у меня сын растет! вот что он умеет! Она ведь им, конечно, по-своему даже гордилась… А он часто по одному только слову, сказанному ею, узнавал, откуда она взяла это слово или почему она так говорит, понимал, что она хочет и не хочет этим сказать, опять вспоминал все сначала, что было, и мучился, мучился. Опять начинал прятать дневник. Но опять ненадолго, потому что так долго нельзя. И так год за годом. Положение, ему казалось, было безвыходное. И у него были минуты отчаяния.
Читать дальше
![Генрих Шеф Записки совсем молодого инженера [Повести и рассказы] обложка книги](/books/393240/genrih-shef-zapiski-sovsem-molodogo-inzhenera-poves-cover.webp)