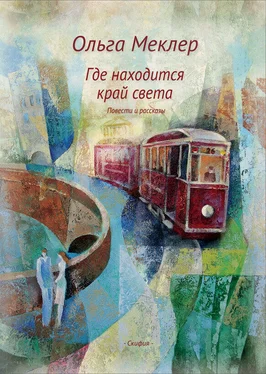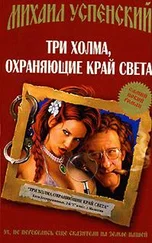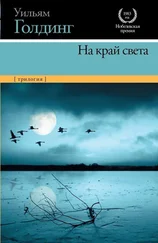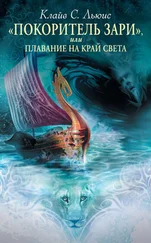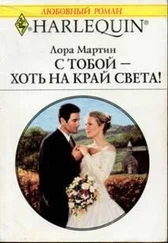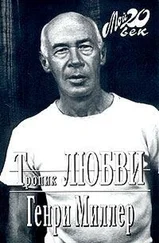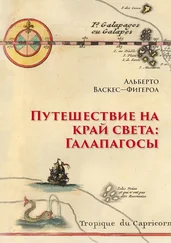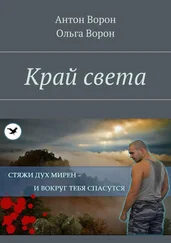А Катька продолжала оглашать округу страстными воплями. Оно и неудивительно – весна, март. Март 1953 года.
И лишь в конце 1955 лед тронулся – немцы были сняты с поселенческого учета, отпала унизительная необходимость раз в месяц отмечаться в комендатуре. Более того, они получили право переезжать в другие районы страны. Правда, с оговоркой: речь не шла о возвращении конфискованного при переселении имущества или об их возвращении в места, откуда они были выселены.
Но чудо все же произошло – им разрешили вернуться в профессию! Сначала внештатниками, потом полноправными сотрудниками газеты.
С каким же упоением Мария снова проводила интервью, писала судебные репортажи и очерки! Стыдливое указание печататься под псевдонимом ее не смущало – не привыкать! Сколько раз в «Волжской коммуне» приходилось подписываться как М. Петрова! На сей раз фамилия была выбрана более аристократичная – М. Гран.
Беседа с мастером медного комбината не клеилась: Иван Петрович артачился и интервью давать не хотел. Он был человеком серьезным и к корреспонденту в штапельном платье отнесся с недоверием:
– Да разве женщина может быть журналистом? Вы же и писать, поди, толком не умеете, только о цветочках да о любви. Хороший журналист – это всегда мужчина! Вот вы читали, как Михаил Гран пишет? Это я понимаю! Не оторвешься! Как Конан Дойл! С ним бы я поговорил!
– Хм… Приятно слышать, – она хитро улыбнулась.
– Что приятного-то?
– А если я скажу, что М. Гран – это я?
– Как это – вы?! Михаил – мужское имя!
– А почему вы решили, что именно Михаил? Может, Мария? Мария Гран. Это мой псевдоним.
– Врете вы все! – насупился заслуженный работяга. – Ну ладно… расскажете что-нибудь интересное, о чем еще не писали?
– Обязательно расскажу, но сначала задам несколько вопросов вам.
Тот случай рассмешил ее, но и порадовал: есть еще порох в пороховницах, жива старая гвардия!
Карл стал внештатником центральной газеты советских немцев «Neues Leben» и, видимо, был оценен по достоинству – вскоре его сделали специальным корреспондентом, а еще через пару лет предложили переехать в Караганду.
Они получили роскошную двухкомнатную квартиру с балконом, трехметровой высоты потолком и лепными розетками под люстры, прямо над Домом пионеров, расположенную в самом центре города, на улице с красивым и интригующим названием – Дворцовый проезд, впрочем, вполне обоснованным: улица начиналась за Дворцом культуры горняков.
Зданию этому необыкновенно повезло – его успели построить задолго до маразматического постановления «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», и архитекторы расстарались. Были здесь и массивные восьмигранные колонны, соединенные со стенами изумительной красоты ажурными арками; и портик, который венчали фигуры шахтера, строителя, чабана с ягненком, колхозницы со снопом, акына с домброй и солдата; и фойе с мраморными стенами и лестницами, отделенное от вестибюля ажурной ганчевой стеной с фигурами казашек-танцовщиц; и великолепный зрительный зал на тысячу мест с тяжелым бархатным занавесом, расшитым золотом, отделанный лепным казахским орнаментом, с ложами и балконом. А потолок… Потолок зала символизировал дружбу народов и был расписан изображениями ликующих советских граждан разных национальностей. Одним словом, это был самый настоящий дворец! Улицу через некоторое время переименовали в честь героя-шахтера Игоря Лободы, спасшего товарищей ценой собственной жизни. Но ДКГ, как сокращенно стали называть это чудо советского зодчества, и по сей день считается одной из достопримечательностей Караганды. Мало кто из жителей города оказался там добровольно, и для людей, многие годы проведших в землянках и бараках, добротная сталинская архитектура была символом возвращения к прежней жизни.
Вряд ли в 50-е годы прошлого века кому-нибудь в голову пришло бы дерзко ответить на вопрос «Где?» – «В Караганде!». По той простой причине, что о существовании шахтерской столицы Казахстана знали немногие – преимущественно работники угольной промышленности, ссыльные и их родственники. Даже о том, что в начале войны одну из карагандинских шахт возглавлял Алексей Стаханов, прогремевший на всю страну родоначальник движения имени себя, мало кому известно. Зато этот город был очень хорошо знаком гениальному биофизику Чижевскому, отправленному сюда на поселение на долгие 8 лет. Всегда помнила о нем и великая певица Лидия Русланова. Именно здесь, в Долинке, в Карлаге, произнесла она свою знаменитую фразу, отказавшись услаждать слух приехавшему начальству: «Соловей в клетке не поет!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу