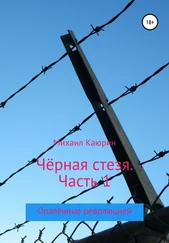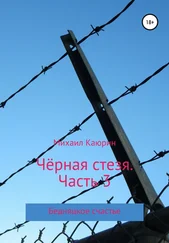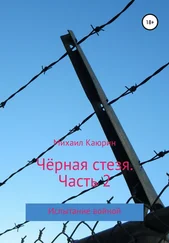— А те остальные, которые отбывают здесь наказание за контрреволюционные намерения? Вы думаете, они способны на большее, чем эти интеллигентишки?
— Чёрт их знает! Чужая душа — потёмки, поди, разберись, какой душок в каждом скопился! Припаял им суд по десятке — значит, напакостили они советской власти, невинного человека не отправят на казённые харчи в тьму-таракань. Враги они и есть враги. Только каждый враг противится народной власти по-разному. Один открыто действует, другой пакостит втихаря. Но оба мешают строить светлое будущее, а это значит, не должно быть прощения ни тому, ни другому, и сочувствие к ним надо рассматривать, как собственное преступление.
— Может, вы и правы, — в раздумье произнёс Александр. — Вам виднее. Только вот странно как-то получается.
— Что странно? — Карачун развернулся к Кацапову всем лицом, уперся в него колючим взглядом, недобро прищурился. — Много недобитых врагов вдруг оказалось?
— Да. Били их, били в гражданскую войну. Выходит, и половины не перебили?
— Ничего странного в этом нет. Беляки со штыками и шашками в бой ходили, видны были, как на ладони. А эти, что сейчас находятся под моим присмотром — отсиживались по тёмным углам, как затаившиеся тараканы. Чтобы выковырнуть их из потайных щелей — потребовалось время. Вот и весь сказ.
— И всё же не верится, что все осужденные по пятьдесят восьмой статье — вредители и враги народа. Слишком уж много врагов набирается. Есть ведь среди них простые работяги, которые сболтнули лишнее по глупости, без злого умысла. Крестьянин, к примеру, который не сдержался и ругнул придирчивого председателя колхоза. Что же в этом враждебного? Неужели такой человек опасен для власти? Простые работяги по жизни всегда костерят своих нерадивых хозяев. Думаю, они, как я, например, попали в руки ретивого следователя и теперь будут ишачить за миску баланды все десять лет, если, конечно, не помрут к тому времени.
— Вот что, Сано, — поморщился Карачун. — Не ройся в куче дерьма в поисках копеечной монеты. Она не сделает тебя богатым. Если не хочешь нажить для себя неприятностей — брось думать о чужих судьбах. Из песка верёвки не совьёшь. От твоих сомнений ничего на зоне не изменится, а я к врагам народа жалостливее не стану. Передо мной поставлена простая задача — вытравить из башки этого сброда любую крамольную мысль, а не заниматься распутыванием и оценкой их злодеяний. И тебе не советую совать нос туда, куда не следует, если хочешь покинуть лагерь по звонку. Понял?
— Как не понять, Николай Павлович? Мне и пяти лет лишку за тот мордобой, который я учинил.
— Вот и оставь язык за порогом. Он, как говорится, не только поит и кормит, но и в тюрьму сажает. Это я к тому, что за подобные антисоветские рассуждения положено сообщать куда следует, после чего твоя безобидная статья переквалифицируется на политическую. А я, как представитель власти, до вынесения нового приговора вынужден буду отправить тебя назад в шахту, как неблагонадёжного. Ты ведь не хочешь возвращаться в забой, верно? — мутные глаза «кума» изучающе остановились на лице Кацапова.
— Мне здесь больше нравится, Николай Павлович, — ответил Александр, усмехнувшись. — Бить рыбу острогой как-то сподручнее, чем махать кайлом в забое. Да и ружьё носить на плече мне совсем не в тягость.
— То-то и оно. Свобода и жизнь для зека всегда была дороже чужих интересов. Своя рубаха ближе к телу, как говорится.
Вытерев носовым платком в очередной раз вспотевшее лицо, Карачун ненадолго умолк, задумавшись о чём-то своём, потом неожиданно проговорил:
— Рассказал бы ты, Сано, лучше о своём прошлом. Уж больно любопытно мне стало, чем ты жил до того, пока не угодил на зону.
— Чего тут рассказывать? — удивился Александр. — Вы моё дело читали, там всё прописано.
— Ничего там не прописано — сухая биография, набор слов и цифр на одном листке.
— Ну, хорошо, расскажу. Только, с какого места вас интересует моя жизнь? — спросил Александр, продолжая пребывать в недоумении от необычной заинтересованности «кума». Ему было невдомёк, с чего вдруг начальник лагеря проявил любопытство к прошлой жизни рядового зека, которых в колонии насчитывается больше тысячи. Пьяная блажь или же намеренное выявление неблаговидных фактов, которые впоследствии можно будет использовать для шантажа?
— Как ты тискал титьку матери — мне неинтересно, — осклабился Карачун. — А вот чем занимался, когда стал зрелым мужиком — хотелось бы услышать.
Читать дальше