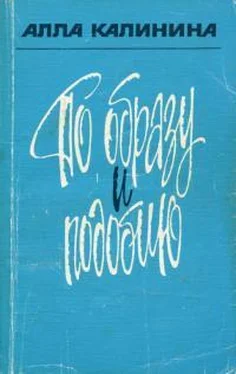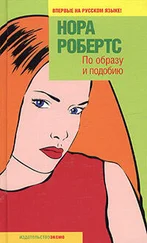— А как его фамилия? Я всех здесь знаю и сам работаю с первого дня.
— Это было еще раньше, в кожгалантерее…
— В кожгалантерее работал Каменцов Николай Иванович, мой старинный друг, он потом перешел в ДЛТ…
— Это мой дядя, а до этого работал дед, Луганцев Георгий… — я вдруг запнулся, потому что понял: я не знаю отчества деда, как-то не догадался спросить, и внезапная острая мысль пронзила меня, что ведь и мой великолепный дед не был началом, а только продолжением, одной из мельчайших веточек огромного, неохватного умом родословного дерева, а это дерево переплеталось корнями и ветвями с другими точно такими же, и вот эта чащоба, густая, непроходимая, как толпа на Невском, эта чащоба и была мой народ, моя родня, о которой до недавнего времени я умудрялся ничего не знать, даже не думать.
А старик между тем уже держал в руках мои видавшие виды и явно уже вышедшие из моды старые часы и, наклонившись над прилавком, включил свою машину. На мгновение я пожалел, что надпись будет на этих часах, а не на новых, роскошных, что остались у меня на столе, в Москве, беда была только в том, что новые ходили все хуже и хуже, останавливались, врали, а эти не подводили никогда, смолоду, со студенческих времен. Они тоже были осколком моей прошлой жизни, моей истории. Я огляделся кругом. Конечно, все здесь давно перестроили, прошли, сменились поколения, передвинулись и состарились стены, и все-таки прошлое существовало, не только оставалось в памяти стариков, но и реально возрождалось в нас, во мне, выплывало из генных глубин моего собственного организма, потому что прадеды и деды воплотились и во мне. И я был — они, частица их живой плоти, пережившая их, это они моими ногами ходили теперь по земле, и все вместе мы жили, ширились, росли и заселяли землю, я наравне с ними. Вот что было самое главное.
Я расплатился со стариком, надел часы на руку и вышел на улицу. Выглянуло солнце, настроение у меня переменилось. Щурясь и улыбаясь, я медленно тек вместе с толпой, заходил в магазины, бродил без цели от прилавка к прилавку и снова выплескивался на божий свет во влажное тепло летнего субботнего ленинградского дня. Из автомата возле кинотеатра «Титан» я позвонил Юле:
— Юля, ты меня не жди к обеду, да и вообще не жди, я уж, наверное, сразу на вокзал.
— Ладно, — сказала она. — Ты знаешь, папа звонил, ты ему очень понравился. Он говорит, ты честный, добрый, душевный.
— Спасибо. Он мне тоже очень понравился, счастливая ты, Юлька!
— Да, наверное. Он замечательный. Жора, я приду тебя проводить, какой у тебя вагон?
— Второй. И спасибо тебе за все, спасибо!
Теперь я был совсем свободен, один, в Ленинграде, до позднего вечера. Я выстоял очередь в кафе и наелся до отвалу; и тут вдруг пожалел, что не пошел сегодня в Эрмитаж, из оригинальности, из пижонства, а зря, зря! Когда еще я соберусь сюда приехать? Может быть, совсем не случайно все люди делают одно и то же и общий выбор как раз и есть самый правильный выбор? Может быть, и так, может быть. Важно только не поддаваться гипнозу безмыслия, безволия, важно не терять себя, думать. И тогда думать, как все, будет уже не стыдно, а, наоборот, радостно, ведь это и дает человеку силы.
И все-таки в Эрмитаж я не пошел, пробродил по городу до вечера, сидел в незнакомом парке на скамейке, переходил какие-то площади, шагал по улицам и даже не смотрел на их названия, поворачивал неожиданно для самого себя. Теперь я видел, и мне это нравилось, что это была не Москва, совсем, другой город. Мне это необходимо было почувствовать, чтобы потом вернуться в Москву и всей душой ощутить, насколько я там — у себя, дома.
Юля прибежала на вокзал в последнюю минуту, сунула мне в руки тяжелый, как кирпич, альбом, стояла на перроне, задрав голову, маленькая, серьезная.
— Папа просил передать, чтобы ты не забыл главное — дед был необыкновенный, талантливый, прекрасный человек! Запомни, Жорик, это самое главное! Они были прекрасные люди, слышишь?
Поезд тронулся. Я прошел в свое купе и несколько минут еще смотрел в окно на убегающий назад перрон, вокзал, город. Никогда еще я не чувствовал, что это так важно, так хорошо, чтобы тебя провожали, хоть кто-нибудь, хоть одна живая душа. Раньше я не понимал Марго, почему она неизменно требовала исполнения этого старомодного ритуала провожаний и встреч, теперь, когда мы путешествуем почти без вещей, а к тому же всюду есть носильщики, такси, камеры хранения. Только сейчас я догадался, она таскала меня с собой не в помощь, а для ощущения неразрывности во времени и в пространстве, — уезжая, чувствовать, что тебя ждут, возвращаясь, знать, что ты дома. А для чего же мне нужно было, чтобы Юля стояла на перроне, подняв кверху темное, почти незнакомое мне кругленькое лицо, для чего? Для того, чтобы помнить: этот город существует где-то там, за пределами моей жизни, хранит свою долгую память — о деде, о ней, обо мне, и в этой памяти мы теперь вместе, рядом, нас много, там, и здесь, и еще где-то, и все мы — одно. Я оторвался от окна и раскрыл альбом, единственный мой багаж. Альбом назывался «Панорама Невского проспекта. Воспроизведение литографий, исполненных И. Ивановым и П. Ивановым по акварелям В. С. Садовникова и изданных А. М. Прево в 1830—1835 годах». Я медленно рассматривал тонкие изысканные и тщательные рисунки, вероятно вызванные к жизни желанием запечатлеть, остановить время, запомнить, выступить в роли фотографии. Но они совершенно не были похожи на фотографии, в этих рисунках не было ничего случайного, лишнего, каждый штрих и каждая деталь были обязательны, единственны, необходимы. Я словно шел по «правой, теневой стороне» Невского, совсем не похожей на ту, по которой я гулял сегодня, и все-таки по той самой. Я узнавал Аничков дворец, Александринку. Публичную библиотеку и Гостиный двор, Городскую думу и собор Казанской богородицы. Только дома, в котором умер мой дед, не было, его, наверно, тогда еще не построили. Да и дед мой должен был родиться еще только через сорок лет. Зато в городе жили другие люди. На развороте листов я видел мастеровых, сновавших по улице, торговцев вразнос у гостиницы «Лондо», кареты, запряженные четверкой, дам, детей, офицеров, удивительные вывески: «Едеръ. Здесь деютъ мускіе платья», «№ 28 Чуркинъ», «Придворной книгопродавецъ»… Город жил, свершая свой ежедневный труд, жил задолго до нас и будет жить после нас, наверное еще больше, неузнаваемо изменившийся и все-таки тот самый. И чтобы жизнь шла правильно, своим законным чередом, наши дети и внуки должны все узнать о нас, какие мы были и почему. Иначе все бессмысленно, все зря. Я закрыл альбом, аккуратно вложил его в коробку, расстелил постель и лег на свою верхнюю полку. Мне ни с кем не хотелось говорить, хотелось думать, закрыв глаза, на себе ощущая тихие толчки и качания несущегося через теплую летнюю ночь поезда, хотелось спать.
Читать дальше