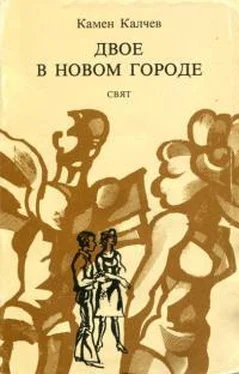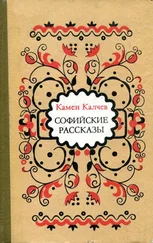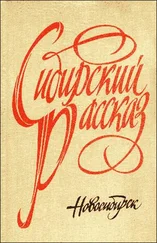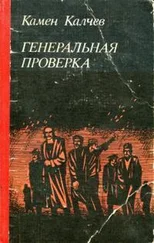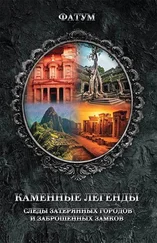Я даже думаю иногда: не лишился ли я умного друга? И мне становится грустно. Ведь она, в сущности, не так уж плоха. Порой, поддавшись безысходному одиночеству, только закрою глаза и сразу же вижу ее. Она походила на беспокойную зверушку с большими, искрящимися жизнью глазами, готовыми вобрать в себя весь мир. Вечно куда-то спешила, о чем-то говорила и знала обо всем на свете. Ее личико, маленькое, чуть не с булавочную головку, свободно могло уместиться в моей ладони. У нее были хрупкие плечики, тонкая талия, немного низковатая, а вот ноги полненькие, сильные — ходить ей приходилось много. Мужчины заглядывались на ее бедра, и это меня злило. Я ей говорил: «Ходи прилично!» А она отвечала, что это ее обычная походка. Одевалась она по моде, особое пристрастие питала к поясам, затягивалась так, что походка у нее становилась еще завлекательнее. Я избегал ходить с ней вместе по улицам, потому что все на нас глазели. Впрочем, даже идя рядом со мной, она всегда держалась особняком, будто меня и нет. Часто забывала о моем существовании, поглощенная своими делами.
Она была просто нарасхват. Я даже боялся за нее и успокаивался только тогда, когда мы оба наконец оказывались дома и можно было заключить ее в объятия. В эти минуты я ощущал свое превосходство над нею. Она благодарно меня целовала. Возможно, это был тот единственный случай, когда она прощала мне мою неотесанность и благодарила, поддавшись инстинкту маленького удовлетворенного насекомого.
— Какой же ты нехороший, — говорила она, высвобождаясь из моих объятий.
— Почему, Виолета?
Она молчала.
А я больше не допытывался.
До сих пор не могу понять, откуда у нее эта утонченность. Ведь она дочь кустаря-сапожника, вступившего потом в трудовую производственную кооперацию. Мать ее была уборщицей в гимназии. Родителей Виолеты уже нет в живых, и это усугубляет мою жалость, когда я думаю о ней.
Каждый по-своему борется за место в жизни. Как это банально, если представить наш тесный мирок! Виолета думала, что ей на роду написано доставлять людям духовную радость, а не служить утехой такому мужлану, как я. Она считала, что опередила меня на целый век, и поэтому плакала, когда я ее не понимал.
Может быть, я варвар? Видно, я такой и есть, если судить по внешним данным — форме черепа, длине рук. Виолета и почерк мой анализировала. Мы делили с ней постель, вместе мылись в ванной. Однажды она попросила меня сходить к местному косметологу, выщипать волосы на руках. Я, конечно, не пошел. Еще чего не хватало! Чтобы надо мной весь город потешался? Угораздило же ее, такую чистенькую, мягонькую, попасть в мою берлогу… Да, она отдалялась от меня все больше и больше. А я озлоблялся. Сначала возненавидел ее литературный кружок, потом спевки и всех, кто в них участвовал. Тогда уж я вовсе ей опостылел. До того, видно, стал противен, что спали мы теперь порознь, в противоположных углах. Притом она настаивала, чтобы я каждый вечер мыл под мышками, прежде чем войти в комнату. И еще заявила, что вообще переберется в другое место, поскольку совершенно не выносит храпа. Это меня окончательно взбесило. Я сказал ей:
— Может, кто-нибудь другой храпит?
Она взвилась, будто кошка.
— Не смей говорить гадости!.. А вообще, уверяю тебя, другой храпеть не будет!
— Наверное, он поэт?
— Во всяком случае, человек чистоплотный.
— Скажи, пожалуйста!
— Чем паясничать, сходил бы лучше к зубному врачу.
— Этого я тоже не предусмотрел.
— А жаль!
Она хлопнула дверью и молнией пронеслась по двору.
С того дня стали мы спать в разных комнатах, точнее, я на кухне, а она в спальне — там было просторнее и чище. И так продолжалось до самого моего ареста.
Надо сказать, она очень разволновалась, когда за мной пришли. Это произошло рано утром, в седьмом часу. Я только что встал и собирался на работу, как вдруг появились милиционеры. Их было двое — вежливые, знакомые мне ребята. Один — мой ровесник, я учил его, как говорится, коммунизму. Другой — вовсе безусый юнец. Оба сильно смущались, не знали, как сообщить, что им приказано меня арестовать. Я им пришел на помощь, напомнил про обыск. Тогда они проделали все, что полагается в такой ситуации. Справедливости ради следует признать, что Виолету до глубины души оскорбило внезапное вторжение милиции. Ей вроде бы стало обидно, как это посторонние люди застали нас спящими в разных комнатах, точнее, меня на кухне. То ли по этой причине, то ли от жалости она расплакалась, принялась уверять парней, что я невиновен.
Читать дальше