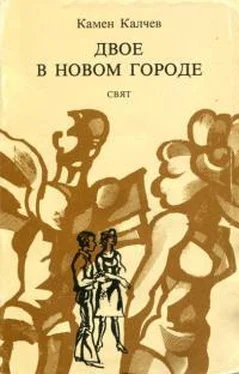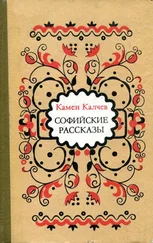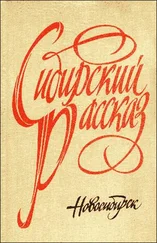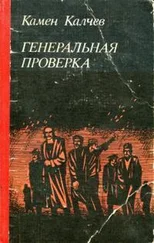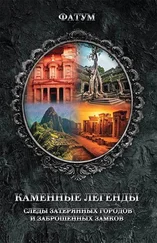Самое подходящее время — вечер, когда коллеги мои отправляются пропустить по рюмочке, а парень пропадает на танцульках. В эти часы не только в нашей комнате, но и во всем общежитии тихо и вроде бы даже тоскливо. Лампочки в коридоре светят тускло. Из уборных остро пахнет гашеной известью. С этим запахом смешивается ползущая с лестницы нестерпимая вонь тухлой брынзы. В комнате духота. Комендант не позволяет открывать вечером окна: от ветра и дождя могут, видите ли, вылететь стекла.
Единственный в комнате крошечный стол покрыт пожелтевшей газетой, мокрой и грязной. И почему никто до сих пор не догадался сменить ее? Уборщицы это вроде бы даже и не касается. Однажды она обозвала нас шоферюгами, а в связи с чем, за что — не снизошла до объяснений. Да, мы действительно шоферы, и никто из нас не стыдится своей профессии. Может, она хотела сказать, что мы возвращаемся из рейса грязными и за нами не наубираешься? Я вовсе не претендую на белую скатерть, но небрежность здешних уборщиц меня возмущает. Особенно нынче, когда мне предстоит такая работа.
Я хочу быть справедливым. «Виолету Вакафчиеву, — старательно вывожу первые строки, — я знаю десять лет, а может, и больше…»
В сущности, что означают эти десять лет? Наша супружеская жизнь продолжалась всего два года. А если учесть, что по меньшей мере десять месяцев из них я пропадал в командировках как инструктор околийского комитета, то вообще остается всего год с небольшим.
С первых же месяцев она принялась меня перевоспитывать. Решила установить в наших отношениях полнейшее равноправие. Началось с пуговиц — муж, видите ли, должен сам пришивать себе пуговицы, если жена занята общественной работой. Мещанство отжило свой век, заявляла она. И подкрепляла свои слова цитатой из Георгия Димитрова. Пуговицами дело не ограничилось. Что касается мытья посуды, то тут, мол, тоже должно быть равноправие: один вечер тарелки моет она, другой — я. Так, оказывается, заведено в доме критика из их литературного кружка. И снова цитата — кажется, из Клары Цеткин. Виолета приучала меня самого гладить брюки и спокойно ожидать ее дома, когда она задерживается со своими пионерами. Или на спевке, на летучке, на разборе стихов, написанных молодыми поэтами из местного литературного кружка. Сиди, значит, дома, жди и не ревнуй! Насчет последнего она тоже много говорила. Осуждала феодальные замашки, свойственные мужьям моего возраста, напоминала о турках и парандже — словом, обезоружила меня полностью. Я решил смириться и делать все, как она говорит. Только вскоре начала она перебарщивать. Как-то утром велела почистить ей туфли. Тут я не выдержал — запустил туфли в открытое окно. А толку? Мне же пришлось разыскивать во дворе эту чертову туфлю. А она, как нарочно, свалилась в соседский колодец, изрядно глубокий. Ничего не поделаешь — полез. Обвязали меня веревкой, дали в руки железную кошку. Хорошо еще, воды в колодце было немного, удалось подцепить растреклятую туфлю. С той поры я старался держать себя в руках, не давать волю чувствам. На какое-то время и Виолета вроде бы присмирела. Переключилась на культуру. Оказывается, нет у меня общей культуры. Не разбираюсь ни в литературе, ни в музыке. Посоветовала записаться в местный хор, дважды затаскивала на спевки и убедилась, что слуха у меня никакого. Я просто мычал, а не пел. Виолете за меня было неловко, она удивлялась, как это ее угораздило в такого влюбиться. Лишь после замужества она обнаружила, что вокруг полным-полно интеллигентных парней. В отчаянии Виолета порой даже пыталась меня ударить, но я каждый раз уворачивался, чтобы не ставить ее в неловкое положение.
Да, сейчас все это кажется смешным, даже наивным, но тогда было не до шуток. Иной раз мне приходит на ум: может, и к лучшему, что меня арестовали. По крайней мере развязался с Виолетой. Не знаю. Счастье с несчастьем трудно уравновесить на чашах весов. Одно лишь удивляет: откуда такой инстинкт самосохранения у двадцатилетней женщины? Она упорно не хотела, чтобы у нас был ребенок. «Рано еще. Да и некому за ним смотреть, — заявляла она. — Его ведь надо воспитывать, а нам еще о собственном воспитании следует позаботиться». И я отступал перед этими доводами. Логика была ее сильнейшим оружием, я всегда тушевался. И ведь она оказалась права! Что бы мы теперь делали, народив детей? Сущее несчастье. А так все в порядке. Мне даже приятно, что я свободен и могу со всей справедливостью думать о ней.
Я всегда завидовал ее памяти. Она помнила уйму стихов и всяких мудрых изречений, целые куски из романов. Зачем-то штудировала биографию композитора Бетховена.
Читать дальше