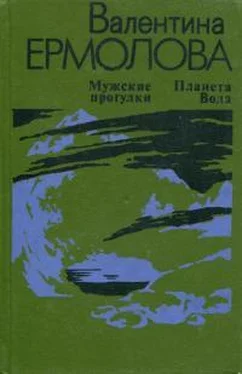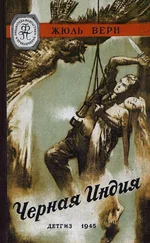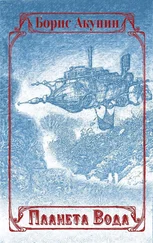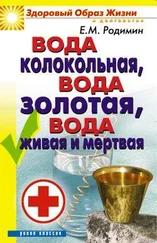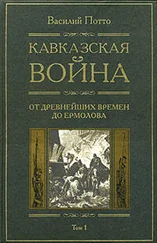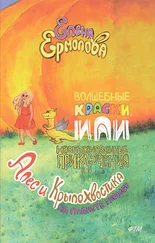Однако одно из самых неоспоримых достижений перестройки уже существует — это приоритет общечеловеческих ценностей над всеми другими. Это сближает нас со всем миром. А что касается писателя, то ему уже не надо стараться изо всех сил, чтобы доказать непохожесть и первосортность советского человека среди «остального» человечества, — хотя мы еще и боимся повредить социализму своей раскованностью, ощущением свободы, жаждой чувства хозяина и пониманием самоценности каждого человека.
Новое мышление уже оказало мощное воздействие на искусство. Парадоксально, но об этом свидетельствует и некоторая пауза: в театре, в кинематографе, в художественной литературе пока нет крупных, сильных, «эпохальных» произведений о том, как в муках сегодняшнего дня рождаются раскаленные крупицы истины. Почему нет? Наверное, еще не созданы. А если и созданы, то с трудом продираются через многослойные сита, которые у нас проходит всякое произведение искусства, прежде чем стать достоянием читающей публики. А может, уже отлеживаются на только что освободившихся полках? Одно хорошо: меньше стало откровенной конъюнктурщины…
Надо сказать, что это новое художественное мышление, опирающееся на приоритет общечеловеческого, а не «классового фактора», не громко, не броско, на нем нету печати попадания в яблочко, что обожают редакторы. Да и у читателя еще не выработался иммунитет против политизированного и идеологизированного восприятия жизни. Поэтому новое мы, возможно, еще не научились узнавать в лицо. Будем, однако, надеяться, что много новых сильных произведений уже начаты в тиши писательских кабинетов.
В этом смысле мы не начинаем вовсе с нуля — у нас полные запасники произведений всех видов и родов искусства. Кое-что снято с полок, кое-что идет из-за рубежа от русскоязычной диаспоры. Тут огромное богатство. Но хотелось бы обратить внимание на еще один резерв осмысления сегодняшней нашей жизни с ее глубокими корнями в далеком и сравнительно недалеком прошлом. Это произведения, напечатанные и десять, и пятнадцать лет назад. Даже в свое время благосклонно встреченные читателями и критикой, сегодня они нуждаются в новом осмыслении. Тогда мы зачастую просто не были способны на серьезную глубину анализа. Ведь любое художественное произведение, как, впрочем, и жизненный факт, высвечивается до конца только в контексте истории. Но этого контекста мы или не понимали, или, понимая суть происходящего, не могли упоминать…
Одной из таких писательниц, творчество которой нуждается в новом осмыслении, является Валентина Ермолова. За два десятка лет литературной деятельности ею созданы две повести и два романа. Но дело, конечно, не в количестве строк, а в той зоркости взгляда, умении обнаружить больной нерв нашей жизни, мужестве, с которым она берется за материал, и в той теплоте, которые несет с собой гуманистический, рассматривающий все богатство жизненных явлений через призму человека, подход. Читатель может возразить: а как же иначе, если не через человека? Ведь литература искони считается человековедением…
К сожалению, мы привыкли рассматривать всё и даже самого человека через социологию, через идеологию, через революцию, через пресловутый «классовый фактор». Короче, на первом месте оказывается преданность идеалу социализма, а уж потом все остальное… Надо ли говорить, как обедняется при таком идеологически иллюстративном подходе личность, как лишается она того вечного и нетленного, что отражено и в памятниках античности, и в памятниках христианства. Для изображения человеческого в человеке еще недавно нужно было определенное мужество, и Валентина Ермолова этим мужеством обладает.
Работа эта необыкновенно увлекательна — прочитать написанное, уже давно ставшее фактом литературы, с точки зрения сегодняшнего дня. Даже больше — для понимания сегодняшнего дня, над смыслом которого мы бьемся, так сказать, всенародно. Недаром же основным лейтмотивом читательских писем в газеты звучит тревожный вопрос: куда мы идем? Чтобы понять это, надо изучить во всех подробностях, отнюдь не экономя время, все три действительности — прошедшее, настоящее, будущее. С грустью можно констатировать: преуспели мы пока что в препарировании прошлого. На очереди сегодняшнее — время будущего придет, наверное, не скоро. Его сейчас не берутся предсказывать даже футурологи, не говоря об экономистах, философах, социологах.
Тут может возникнуть еще одна проблема: а нужно ли менять оценку того, что написано и в свое время оценено? Не будет ли это насилием над художественным произведением, попыткой притянуть за уши к сегодняшним проблемам? К тому же это ведь и экзамен для писателя, у которого много законченного, но не менее и неисполненных ещё замыслов.
Читать дальше