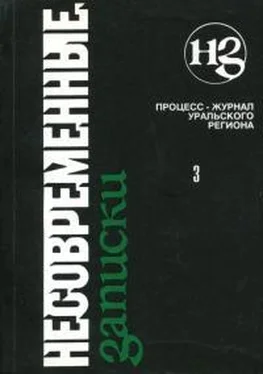— Уже поздно, малыш, — сказал мужчина. — Пойдем-ка домой.
— Нет, — нахмурился мальчик. — Я не хочу уходить отсюда.
— Я тоже не хочу, но я уже устал здесь сидеть. Пойдем?
— Ладно, — нехотя сказал мальчик после некоторого раздумья.
Вниз они спустились тем же манером, что и поднялись вверх, — с большого камня на камень поменьше, а с него уже на землю. Они не торопились уходить и ещё какое-то время постояли на берегу, у самой воды. Мальчик поднял с земли прутик и бросил его в самую стремнину, наблюдая за тем, как он стремительно удаляется от них вниз по течению.
— А куда плывет эта палочка? — спросил он.
— В другую реку.
— А оттуда?
— В ещё одну реку, которая больше той.
— А оттуда?
— В следующую реку, которая ещё больше.
— А оттуда?
— В океан.
— В какой океан?
— В Северный Ледовитый.
— Это далеко отсюда?
— Очень далеко.
— А сколько далеко?
— Примерно две тысячи миль, кажется. Представляешь, сколько это?
Видимо, цифру эту мальчик представлял себе не очень хорошо.
— Нет, — произнес он немного погодя. — Я ведь, папа, не знаю, что такое тысяча.
— Ну тогда представь себе — твоей палочке придется плыть до Северного Ледовитого океана полмесяца.
— Полмесяца?
— Ну да, полмесяца. Две недели.
— Папа, я хочу на Северный Ледовитый океан.
— Там же так холодно. Людей нет. Кругом льды и белые медведи.
— Я знаю. Как у Снежной Королевы. Но я же поеду туда с тобой. Или мы поплывем туда по речке.
— Пойдём домой, котёнок, — сказал мужчина. — Поздно уже.
— Я не буду плакать, — продолжал мальчик. — Пап, я же не плакал, когда меня обожгла крапива.
Отец не ответил ему. Какой уж там Северный Ледовитый океан, котёнок ты мой, подумал он, когда уже завтра утром тебе нужно быть в другом городе за восемьдесят миль отсюда, а дальше ты со своей мамой поедешь на море. На тёплое южное море, вдали от Арктики.
— Пойдём, Львенок, — сказал он.
Они пошли, не говоря более ни слова. Потом мальчик устал и запросился на руки. Отец прижал его к себе и увидел слезы в его больших карих глазах. Он обнял сына еще крепче и ускорил шаг.
3
Наступившее затем утро — утро дня разлуки — прошло для него в каком-то тумане. В его памяти остался только самый момент расставания, когда они сказали друг другу «до свидания». У того и другого в глазах стояли слезы. Весь последующий месяц он пребывал в прескверном и в то же время странно удивительном состоянии лихорадочного ожидания, когда в памяти остаются только те жизненные события и эпизоды, которые связаны с объектом вашей одержимости, а все остальные безжалостно изгоняются из неё. В который раз снова и снова прокручивал он в своём сознании сцены их прогулок, игр, разговоров и улыбок, столь обычных — и столь неповторимых: в них было что-то такое, что не укладывалось в их чисто материальное содержание и неким необъяснимым образом говорило о том, насколько безумно привязаны они друг к другу, хотя ни один из них никогда не признавался в этом другому на словах. В конце концов, слова тут были лишними: им было вполне достаточно вместе ходить, играть, беседовать и чувствовать при этом полную невозможность существования друг без друга.
Наступил август, и деревья начали сбрасывать свою листву — нехотя и нерешительно, будто всё ещё не веря в то, что другое время года идет на смену лету. Дни по-прежнему стояли теплые, но по ночам стало уже холодно, и наутро трава покрывалась серебристым инеем. Месяц ожидания закончился: можно было звонить и договариваться о встрече. Он набрал телефонный номер и услышал голос женщины, которая не так давно приходилась ему тёщей, — тусклый голос, с медленными учтивыми интонациями. Добрый день, сказал он, это я, позовите моего Лео, пожалуйста.
— Да, но ведь он с Джезебел, — услышал он в ответ (Джезебел было имя его бывшей жены). — Она решила с моря домой не возвращаться, а сразу поехать на стажировку. Ребенка она взяла с собой.
— Куда?
— Куда-то в Швейцарию, насколько мне известно.
— Что ещё вам известно настолько же?
— К сожалению, ничего больше. Подробностей она не сообщила.
Врёт, подумал он. Дж. Д. Сэлинджер, ни дать ни взять: у него есть рассказ под названием «Превосходный день для рыбки-бананки». Так и здесь — превосходный голос для вранья, завуалированного этими медленными тошнотворными интонациями. Учись, парень, как нужно врать, сказал он себе. Слушай — ни дрожи в голосе, ни малейшего замешательства.
Читать дальше