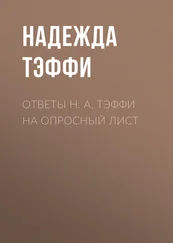– И что, она просто вернется, и все? – спросил он.
– Возможно.
– Но что она будет делать, когда вернется? Что она скажет? Что случится?
– Не знаю. Она просто появится. Будет дождь, ты услышишь, что ключ поворачивается в замке, заскрипят петли, ты обернешься и вдруг увидишь в дверном проеме ее.
– И?
– И на этом книга кончается.
– Но что будет потом?
– Не знаю. – Я опять заплакала. – У меня не хватает на это воображения. Но я больше не могу ее ждать.
Тоби склонился ко мне, будто собираясь что-то сказать, но вдруг прижался губами к моим губам. Рты у нас обоих были открытые, горячие и сухие. Мы сидели, прижавшись друг к другу открытыми ртами, не двигаясь и не целуясь, а будто делая друг другу искусственное дыхание, закрыв глаза и соприкасаясь носами. Когда Тоби наконец отстранился, я продолжала сидеть, открыв рот и закрыв глаза.
– Ты – все еще ты, – сказал он. – Все такая же чокнутая, мрачная и добрая. Я вижу. Ты не так сильно изменилась, как тебе кажется.
Я закрыла рот и почувствовала, как по щекам катятся слезы. Прошла долгая секунда, и Тоби произнес:
– Да пошлет Господь им счастья.
Я открыла глаза:
– Да пошлет Господь детям их врагов несварение желудка и увеличенные поры.
– Да. Да наполнит Господь гноем и желчью сердца тех, кто благословил их восемнадцатидолларовыми бумажками, в общей сумме не превосходящими трехсот шестидесяти долларов.
Он встал и протянул мне руки. Я взялась за них, он потянул меня вверх, и я продолжала подниматься еще долго после того, как сравнялась с ним ростом, – совсем как много лет назад.
Я спросила:
– Как ты думаешь, ты женишься снова?
Он посмотрел на танцующих Сета и Ванессу:
– Надеюсь.
Он сказал это быстро, не раздумывая. И сам удивленно замигал.
Он сказал, чтобы я ждала его на улице; он только зайдет в туалет. Мы вместе пройдем пешком через мост и через аптаун, как в старые добрые времена. Я вышла, чтобы подождать его на улице, нашла в сумочке остатки пачки «Кэмел», прислонилась к фасаду дома Сета и закурила.
Я смотрела, как мимо идет парочка; они так впились друг в друга, что почти развернулись друг к другу лицом, при этом двигаясь вперед, как на обложке того альбома Боба Дилана. Мне стало их жаль. Этой девушке наверняка не больше двадцати четырех. Теперь я знала, что через несколько лет она станет всего лишь чей-то женой. Муж будет называть ее стервой. Стервой, пилой и ведьмой. Он будет удивляться, куда девалось ее обожание; куда девались ее улыбки. Он будет удивляться, почему она больше не хохочет. Почему не носит сексуальное белье. Почему ее трусики, когда-то кружевные и соблазнительные, сменились скучным белым трикотажем. Почему она больше не любит, когда он берет ее сзади; почему она больше не хочет быть сверху. Священный организм брака – то, что мешает мужчине жаловаться приятелям на свои семейные беды, – исчезнет последним. По стенам крепости, где супруги хранили свои секреты, побегут трещины, и муж будет дальше размывать эти трещины, изливая душу своим друзьям. Они будут сочувствовать ему и понимающе кивать, чтобы он начал ломать голову: зачем оставаться с мегерой, которая больше не ценит его таким, какой он есть, а жизнь слишком коротка, старик, слишком коротка. Он разведется с женой. Все эти разводы происходят от неумения прощать. Она не может простить, что комплексы мешают ему восторгаться ее достижениями; он не может простить, что она – звезда, сияющая так ярко, что он уже не видит себя в зеркале. Но еще развод происходит от забывчивости. Люди решают, что больше не будут вспоминать момент, предшествующий хаосу, – момент, когда они полюбили друг друга, момент, когда они поняли, что вместе более особенны, чем порознь. Брак живет, пока служит воспоминаниям об этих моментах. Брак не простит им, что они постарели, а они не простят свой брак за то, что он был этому свидетелем. Муж будет сидеть с друзьями и не понимать, почему все вышло так плохо. Но жена будет знать; и я буду знать.
Когда мы с Рэйчел были маленькие, прогрессивное общество, едва не ратифицировавшее поправку о равных правах мужчин и женщин, обещало, что мы сможем стать кем угодно. Нам говорили, что мы можем преуспеть, что в нас есть нечто уникальное и особенное, что мы можем добиться всего, чего хотим. Последние всплески поколения девочек, которых учили, что они особенные, смешались с первыми всплесками второй волны феминизма. Все это время даже я, шестиклассница, удивлялась, что учителям и родителям позволено такое говорить, что они говорят это при мальчиках, и те вроде бы не обижаются. Даже тогда я знала: мальчики это терпят, потому что это совершенно очевидная неправда. Все равно что футболки, в которых сейчас ходят в школу подружки моей дочери, с надписями большими печатными буквами: БУДУЩЕЕ – ЖЕНСКОГО РОДА. Они ходят в этих майках среди бела дня. Но общество терпит такое лишь потому, что все знают: это ложь, и мы обманываем девочек, чтобы хоть как-то смягчить их будущую маргинализацию. Все знают, что в этом будущем девочки в конце концов будут наказаны, и потому сейчас позволяют им носить футболки с дурацкими надписями. Нас с Рэйчел растили так, чтобы мы могли заниматься чем хотим, и мы занялись тем, чем хотели; мы добились успеха, мы всем показали. Нам не нужно было носить майки с лживыми надписями, потому что мы уже знали тайну. Она заключалась вот в чем: когда ты добьешься успеха, догонишь и перегонишь, когда начнешь зарабатывать больше, когда превзойдешь все ожидания, мир вокруг тебя не изменится. Тебе все так же придется ходить на цыпочках вокруг хрупкого мужского эго. Это не страшно для женщин, которые целый день занимались шопингом и пили мартини, – ведь в этом и заключается их вознаграждение. Но это абсолютно невыносимо для тех, кто работал, завоевывал чужое уважение и вырастал в человека, вокруг которого другие должны ходить на цыпочках. То, что эти мужчины так уязвимы, то, что они напрочь неспособны к самоанализу, не могут понять, почему женщины не в восторге перед очередной ночью, когда им опять придется поддерживать, поддрачивать и подсасывать, удаляя из партнера всю неуверенность до капли, – вот это для нас невыносимо.
Читать дальше
![Тэффи Бродессер-Акнер Флейшман в беде [litres] обложка книги](/books/391437/teffi-brodesser-akner-flejshman-v-bede-litres-cover.webp)





![Александр Афанасьев - Прелюдия беды [litres]](/books/392580/aleksandr-afanasev-prelyudiya-bedy-litres-thumb.webp)
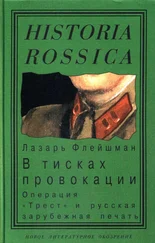
![Тай Сазерленд - Преодоление Беды [litres]](/books/417750/taj-sazerlend-preodolenie-bedy-litres-thumb.webp)