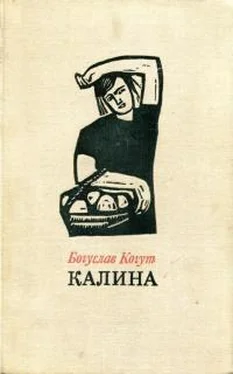Богуслав Когут - Калина
Здесь есть возможность читать онлайн «Богуслав Когут - Калина» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 1970, Издательство: Прогресс, Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Калина
- Автор:
- Издательство:Прогресс
- Жанр:
- Год:1970
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Калина: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Калина»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Калина — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Калина», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
— Стреляют.
— Далеко?
— На Мурае.
— Я думал, что ближе.
— По оврагу доносится.
— Там наши.
Матус молчал, словно чем-то обескураженный, коптилка не мерцала на своем обычном месте, из круглого лаза робко сочился отблеск дня, в причудливой игре света и мрака фигура Матуса приобретала странные, нереальные очертания.
— Сходил бы туда, поискал бы наших.
— Это далеко, да еще как.
Надежда угасла, Бартек почувствовал себя жертвой кораблекрушения, которую обходит стороной спасательный корабль; он ясно себе представил: Матус выберется на Мурай лишь после битвы, искать живых среди убитых и убитых среди живых.
— Я голоден, — сказал он скорее самому себе, чем Матусу, которого готов был теперь возненавидеть.
— Вот теперь ты дело говоришь.
Он ел неторопливо, долго, пока Матус не сказал:
— Хватит. Еще повредит тебе.
— Брюхо у меня здоровое, — попытался возражать Бартек.
— Нельзя сразу наедаться.
Бартек уступил с сожалением, тотчас снова забылся, и так пошло: просыпался, ел, пил и засыпал. Когда Матус менял ему повязку, не чувствовал боли, с любопытством разглядывал распаренную рану, зиявшую совсем рядом с первым шрамом, лесным шрамом годичной давности. «Меткий стрелок всегда попадает в одно и то же место, — подумал он с горькой усмешкой. — Сколько еще раз угодит сюда, цыганка предсказывала: «Будете умирать дважды», оба раза уже были, значит, баста; цыганка была пьяна, ребята напоили ее, когда непогода выгнала их из леса в деревню, напоили, привели к Бартеку: «Она здорово гадает…»
— Ты не вставай, — говорил Матус, когда Бартек, уже совершенно потеряв счет дням, пробовал свои силы, — не вставай до срока, иначе смерть воротится.
Поэтому он пробовал силы в отсутствие Матуса.
Когда впервые выполз из пещеры, день был пасмурный, но, несмотря на это, Бартек почувствовал себя как слепец, который вдруг прозрел и не может вынести яркого света — перед глазами плясали огромные красные круги; он ухватился за столб, который некогда был молодой березой, может, обрубило ее снарядом, а может, Матус укоротил для каких-то своих целей, которые трудно разгадать, надо спросить его об этом; он стоял, обхватив этот обрубок дерева, и глядел на мир, складывающийся из опаленного летним зноем леса с небольшой полянкой на переднем плане и безграничного неба; лес спускался куда-то вниз, небо вздымалось ввысь, можно было бы все это переместить, и ничего бы не изменилось; тут застал его Матус, он был явно зол, а вернее печален, и Бартек понял, что этот отшельник боится нового одиночества, которое наступит, когда он наберется сил и уйдет.
— Ты мог бы пойти со мной. Ты должен пойти со мной.
Матус раздумывал, может, боролся с соблазном покинуть пещеру и вернуться к людям, может, только ждал нужных слов, которыми сумел бы выразить свое решение.
— Я не могу никуда идти.
Как-то в другой раз:
— Матус, ты должен пойти со мной, может, где-нибудь найдешь сыновей, хотя бы одного.
— А ты найдешь смерть.
— Каждый найдет свою смерть.
— Ты попадешь к головорезам.
— Я попаду к своим.
Несколько раз Бартек решался и в последнюю минуту пасовал: «Матус прав, далеко не уйду, слаб еще»; пока не настал тот день, казавшийся воскресным или праздничным; дул легкий, ободряющий ветерок, на полянке остановилась молодая косуля, долго не сводила глаз с обрубка, торчавшего перед пещерой, потом неторопливо углубилась в чащу; облачка лежали на небе, словно праздничные салфетки на огромном столе, ручеек рядом с пещерой точно притих, и серые камешки на дне сделались отчетливее.
— Я вернусь сюда когда-нибудь.
— А зачем?
Матус был прав, Матус не был маньяком или сумасшедшим, мохнатое лицо Матуса было прекрасно. Бартек знал, что лицо это запомнит крепче многих значительных лиц, чтобы унести с собой. «Не будь сентиментален, не будь сентиментален, не будь…»
Он шел по тропе, косо спускающейся вниз по склону, в глубокой тишине шаги его казались ему слишком громкими, хорошо вышколенный разведчик, тем более командир спецбатальона должен ходить тише, наконец Бартеку показалось, что это не только эхо, а кто-то крадется за ним следом, обернулся — шагах в пятнадцати стоял Матус, огромный, настороженный, во всей его фигуре было что-то хищное и вместе с тем безысходное; они постояли друг против друга, и Бартек знал, что не двинется первым, наконец Матус перекрестился, повернул и медленно побрел вверх.
5
Чеслав дожидался справки о выписке из больницы, она уже была подготовлена, но кто-то еще должен был ее подписать, он не очень-то представлял, к кому за этой подписью обращаться, и поэтому не мог проявить личной инициативы; медсестра в белом халате сказала ему, что столь важный пациент не может покинуть больницу без соблюдения формальностей, и Чеслав не знал, содержалась ли в упоминании о важном пациенте какая-либо ирония или это было просто брюзжание; он махнул рукой, торчавшей на перевязи, и продолжал ждать, стараясь скоротать время тем, что разглядывал собственное отражение в оконном стекле; Чеславу казалось, что белая косынка, поддерживающая предплечье, придает ему солидность; он высок и строен, выражение лица мягкое, почти наивное, светлый чуб над крутым лбом, серые глаза смотрят словно бы удивленно, втайне он радовался, что походил на Бартека, а не на Кароля, брюнета с преждевременной сединой; наконец Чеслав вышел из больницы, оставив позади неприятный запах лекарств и дезинфекции, и сообразил, что ему, в сущности, некуда особенно спешить; он шагал по слегка подтаявшему снегу, который прикрывал выбоины немощеной улицы, прохожие почтительно кланялись ему, даже незнакомые.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Калина»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Калина» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Калина» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.