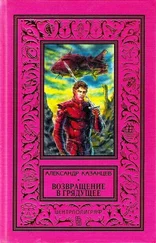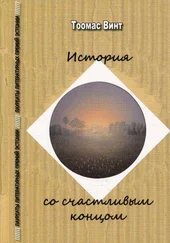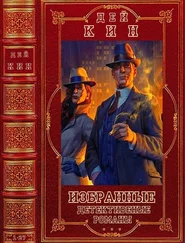«Но вы же…» — Марре ничего не понимала.
«Да, конечно, — поспешно произнес Вереск, — но… я просто не хочу причинять ей боль…»
Он не хочет причинять ей боль, он не хочет причинять ей боль, он не хочет причинять ей боль… повторяла Марре, когда Вереск ушел. Эта фраза вертелась у нее в голове, создавая в мыслях безнадежную путаницу. Внизу хлопнула дверь. Марре медленно подошла к окну, чтобы посмотреть, как Вереск, подпрыгивая, бежит через слякоть.
И вот теперь она ждет ребенка от поэта Эдвина Вереска. Ей надо что-то предпринять. Она вспомнила, как женщина с их работы, недавно сделавшая аборт, весьма откровенно рассказывала о своих неприятных переживаниях в больнице, тем более что это у нее не первый, и поклялась больше и близко не подпускать к себе мужа.
Это была одна из возможностей. Весьма разумная, но Марре почувствовала, как все в ней воспротивилось этому. Внезапно она подумала, что ничего не имеет против того, чтобы у нее был ребенок. Это была новая мысль и поначалу показалась какой-то чужой.
Марре постелила на диване простыни, положила сверху красное атласное одеяло и погасила свет. Она лежала в тихой комнате, в тихом доме, в тихом городе. А что, если написать Эдвину, что она ждет ребенка? Вдруг все чудесным образом изменится, поэт избавится от жены, которую не любит, они соединятся, будут счастливы… Но ей нужен был именно тот Эдвин, с которым она в снегопад гуляла по столице, а не тот Вереск, который спешил на поезд. В ее сознание проникла смутная мысль, что очень скоро она может стать такой же ревнивой женой… И, наверное, причин для этого будет предостаточно, с горечью вздохнула она.
Перед ее глазами возник пейзаж из детства: вся земля покрыта лиловым цветом, в розовом небе плывут желтые облака; она попыталась связать это красочное видение с чем-то, с каким-то определенным временем или местом, но помнила лишь, что была тогда маленькой. Она подумала: вереск растет под соснами на пустоши, растет на болоте… Она улыбнулась: у меня родится вересковый ребенок. От чувства умиления на глаза внезапно навернулись слезы, теперь она знала, что уже любит своего ребенка, станет писать ему стихи, рисовать картины, все время будет подле него, будет бороться за его счастье, сделает все, чтобы из ее ребенка вырос добрый, смелый, отважный, хороший, умный, сердечный, готовый к самопожертвованию, прекрасный, старательный и преуспевающий в жизни мужчина. Мужчина? Да, именно мужчина; она и подумать не могла, что может родиться девочка.
И Марре заснула со счастливой улыбкой на губах.
ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА
вслед за ночью все-таки приходит утро — зачем люди отравляют себя? — где почерпнуть силы, чтобы начать день — а вдруг жить в захолустном городке уютно и хорошо — воскресные картинки с рынка — судьба вторично напоминает о себе — в конце концов, что такое счастье — а может, счастье как раз и живет на улице Огуречной, в доме номер 27.
Таавет попробовал пошевелить языком, язык коснулся неба и приклеился к нему, во рту пересохло, возник безотчетный страх, что гортань потрескается. Он сел на край постели, его глаза блуждали по комнате до тех пор, пока не остановились на графине, на дне которого еще оставалась вода. Он выпил ее, но это оказалось каплей в безбрежном море похмелья. Больше воды не было. Внезапно Таавет заметил, что комната залита ярким весенним солнцем, кровать репортера смята, дверь номера распахнута и из коридора доносится жужжанье пылесоса.
И тут он вспомнил все, что произошло вчера, вернее, не совсем все, но если принять во внимание, что он знал про свой «отключ» (Таавет слышал, что так иногда называли потерю памяти), то ему вполне удалось свести концы с концами. Сейчас этот позорный кутеж стал уже вчерашним днем, был, как говорится, позади, на дворе хозяйничало новое утро (а может быть, день?), он взглянул на часы: нет, все-таки утро.
Первым делом он закрыл дверь, и в этот момент его охватил панический страх, что здесь побывали воры; превозмогая себя, он сделал несколько быстрых шагов к стулу, нащупал во внутреннем кармане бумажник, открыл его и со вздохом облегчения убедился, что его не обчистили. И то хорошо. Но тут он взглянул на себя в зеркало (ты мне, зеркальце, скажи, да всю правду доложи, кто на свете всех гнуснее?) и, подавленный, сел на край постели. Ужасно было начинать знаменательный день подобным образом. В конце концов он решил, что начало дня можно чуть-чуть еще отодвинуть, и в надежде уснуть натянул на голову одеяло.
Читать дальше
![Тоомас Винт Возвращение [романы, новеллы] обложка книги](/books/389241/toomas-vint-vozvrachenie-romany-novelly-cover.webp)