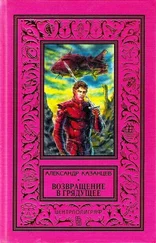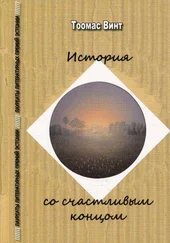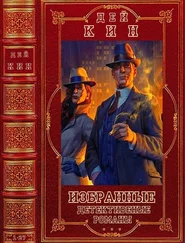— Да, — отозвался редактор. Он многое отдал бы сейчас, чтобы не было этих выпитых рюмок водки и коньяка, и его захлестнула безграничная нежность к женщине, но он понимал, что если только попытается обнять ее, то встретит жесткий, мрачный, непримиримый и даже ненавидящий взгляд. — Дорогая, я говорю сейчас серьезно, — начал он, но, почувствовав беспомощность своих слов, закрыл лицо руками и стал ждать.
Он не знал, чего ждет, он больше уже ничего не знал.
— Послушай, я хочу спать, — сказала женщина, — я не расположена сидеть тут с тобой ночь напролет. — Она потушила свет и пошла на кухню.
Редактор разделся, аккуратно, по складке, сложил брюки, повесил пиджак на спинку стула и улегся на прохладные простыни. В окно струился голубовато-желтый свет. Но был ли он голубовато-желтым? И автоматически в мозгу стало складываться следующее описание: холодный лунный свет проникает сквозь выцветшие занавески в комнату, где в разных постелях, в ожидании сна, лежат он и она. В тот вечер между ними как бы из ничего выросла стена непонимания, ибо те слова, которые они бросали друг другу, на самом деле были ничтожны по сравнению с их чувством, и тем не менее слова одерживали верх, возводя стену все выше и выше, и под конец они уже не видели друг друга за этой стеной… Редактору внезапно вспомнилась сцена из «Чайки», где Треплев размышляет над тем, как известный писатель Тригорин создает свои описания:
«Треплев: „Афиша на заборе гласила… Бледное лицо, обрамленное темными волосами…“ Гласила, обрамленное… Это бездарно. Начну с того, как героя разбудил шум дождя, а остальное все вон. Описание лунного вечера длинно и изысканно. Тригорин выработал себе приемы, ему легко… У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса — вот и лунная ночь готова, а у меня и трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе… Это мучительно. Да, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет, потому что это свободно льется из его души…»
Этот отрывок уже давно засел в его памяти, время от времени возникал в воображении и мучил его, а порой странным образом вдохновлял, но сейчас не было ни того, ни другого, одно лишь сознание собственного бессилия что-либо создать. Из кухни вернулась Лууле, закрыла за собой дверь, сняла халат, на миг перед глазами редактора мелькнула ее гибкая спина, затем послышался скрип кушетки, а потом все стихло.
Неожиданно редактору вспомнилась реплика из первого действия «Дяди Вани»: «Войнитский: В такую погоду хорошо повеситься». Он вяло подумал о том, что день был прекрасным. В ясном синем небе полыхало весеннее солнце. Журчали ручейки растаявшего снега…
И тут он понял, чего хочет. Необъяснимая радость охватила его, впервые за долгое время он точно знал, чего хочет все его существо — тело, разум, чувства, восприятие, сознание, подсознание. Все жаждало одного — сделать всего лишь четыре-пять шагов, приподнять край одеяла, скользнуть к Лууле, обнять ее, быть в ней, раствориться в ней, быть… Но… внезапно эта радость потускнела и словно исчезла, и он подумал: то, о чем я мечтаю, — это мало или много, слишком мало или слишком много… И тут он понял, что если сейчас встанет, то произойдет что-то непоправимое, он скажет слова, которые уже нельзя будет взять назад, он сделает выбор, и в нем начнется длительная метаморфоза, конечным результатом которой будет… Он боялся думать дальше, услышал дыхание Лууле и скрип кушетки, означавший, что женщина пошевелилась… И ему захотелось одеться и уйти, но это было уже не его желанием. Я должен выйти из этого состояния и остаться самим собой, стучала в голове беспомощная мысль, и тут ему показалось, будто это вовсе и не его голова; я засыпаю, засыпаю, засыпаю, засыпаю… Но даже заставить себя заснуть было не в его власти… Он встал с постели, в ногах странная легкость, и сделал шаг — впереди белела застеленная простынями постель, посреди лежала обнаженная Лууле, черные волосы обрамляли ее лицо, колено согнуто, рука с растопыренными пальцами на животе, на губах зовущая улыбка. Я могу поскользнуться, лениво подумал он, но ведь здесь не скользко, успокоил он себя. Лууле присела на постели. «Иди, тебя ждут», — прошептала она. «Почему я вечно должен подчиняться этой женщине», — пробормотал редактор, но бормотание прозвучало слишком громко, и редактору стало ужасно стыдно за свои слова. «Ну иди же», — повторила Лууле.
Читать дальше
![Тоомас Винт Возвращение [романы, новеллы] обложка книги](/books/389241/toomas-vint-vozvrachenie-romany-novelly-cover.webp)