И тут его стало рвать кровью. У Вильмы вмиг оказалось в руках полотенце. Одной рукой она держала Имро за плечи, другой обирала кровь со рта, но крови все прибывало.
А мастер причитал над ним, но и сердился: — Бог ты мой, кровью рвет! Где доктор! Где доктор! Имришко наш, сын мой..! А я еще выпил! — злился он на себя. — Вильмушка, что с ним, хоть ты скажи! Что с ним творится?
Но Вильма не могла даже слез утереть. — Имришко! — Она приняла со рта у него уже второе полотенце, а его все еще рвет. Плохо, совсем, совсем плохо! Где доктор?!
Вдруг ему полегчало. Он стал хоть и с трудом, но все же ровнее дышать. — Ну скажи, скажи, Имришко? Ну как? Лучше чуток? Отпустило? Чего бы ты хотел? Имришко, скажи! Все тебе принесу, только скажи, скажи нам, сынок мой, чем тебе послужить?
— Я… Я… уж я… не знаю. — Он так страшно глядит на них и тяжело дышит. — Я… Я… воды..!
— Воды, Вильмушка! — Мастер подхватывает это слово и мигом бежит во двор, видя, что у Вильмы все руки в крови. Воды, воды. В колодце вода! Уже у колодца он обнаруживает, что забыл взять ведро, но тут же его осеняет, что вода есть и в кухне в ведре, и он бегом назад. — Живо, кружку! Господи, Вильмушка, кружку давай! — Вот он уже нашел кружку, бежит с ней к постели. — Кружка! Вода! Имришко! Вода в кружке, водичка в ней!
Но Имро вдруг выпрямился, хотел вроде и руки простереть, но в тот же миг его откинуло назад, раз-другой он еще шевельнул руками, потряс и чуть подергал периной, и больше уже ничего.
Мастер и Вильма с минуту глядели друг на друга, но, когда эта минута слишком затянулась, мастер, как-то сразу сгорбившись, сказал глухим голосом: — Аминь, Вильмушка! Пускай ему, сыну моему, господь бог простит все прегрешения!
Он посмотрел на постель, потом на Вильму и потихоньку пошел прочь, на пороге остановился, схватившись за дверную притолоку, и вдруг — к горлу подступили рыдания, он стал задыхаться, рыдания вместе с кашлем рвались наружу… Крепко держась за дверь, он хрипло заголосил…
А когда все выкашлял, когда ему наконец чуть полегчало, он, опустив руки и плечи, привалился спиной к дверной раме и помочился.
Тем временем вышла и Вильма. Глаза у нее еще блестели от слез, но лицо уже немного обсохло, она остановилась в двух шагах от мастера, протянув вперед руки, словно хотела кому-то показать, что они у нее снова чистехонькие, она словно бы и сама этому дивилась, но сказать ей было уже нечего…
А мастер загляделся на колодец. Из насоса еще скапывает вода. Припоздала, водичка!
У колодца окол, что против других околов и околков иначе, краше голубеет, потому как всегда свежий, достает ему воды и тогда, когда он не просит. — Гляди-ка, Вильма, разрастается! — Мастер потихоньку поводит головой. — И для Имришко будет с него на околок!
ВИНЦЕНТ ШИКУЛА И ЕГО ТРИЛОГИЯ
«Все, что я написал, — о родине. Это моя главная, единственная и самая дорогая тема. Другой темы мне не нужно…»
В. Шикула
Прозаик Винцент Шикула (род. в 1936 г.) в современной словацкой литературе занимает особое место. Он принадлежит к наиболее ярким писателям среднего поколения, определившим основной процесс развития словацкой литературы в 70-е годы. Его книги вызывают живой читательский интерес — у него на родине и за рубежом — и постоянный отклик литературной критики.
В литературу Шикула вошел в 1964 году двумя книгами: «Не аплодируйте на концертах!» и «Может, я построю себе бунгало». Первая книга, лирический дневник солдатских будней, привлекла к себе внимание своеобразной художественной концепцией и жизненной философией. Уже здесь автор обнаружил редкий дар — описание внешней реальности насыщать напряженным внутренним динамизмом. Восемнадцать прозаических произведений книги, в жанровом отношении трудно определимых, тематически и формально неброских — о ценностях «малого гуманизма» в современной жизни, то есть о человечности в непроявленных жизненных ситуациях, во взаимоотношениях людей. Под лупой прозы Шикулы этот гуманизм обретает новый смысл. Вторая книга — возвращение в пору детства, к истокам непреходящего и сокровенного. Такие рассказы, как «Мандуля», «Дорога», «Падали груши», подтвердили основной принцип его повествования, устремленного к тем «мелочам» жизни, которые обычно ускользают из поля зрения, а на деле часто выражают социальное в человеческом бытии. Так в прозе Шикулы утверждается мир человеческих отношений, а следовательно, мир — в широком смысле — социальный. Атмосфера легкой грусти и лирической ностальгии характерна для его рассказов, построенных на едва обозначенном, незавершенном сюжете. Резкую контрастность драматических столкновений писатель обычно, создавая образ, приглушает. Легкий полунамек, непроизвольность, а то и случайность преобладают в его творческой манере. Шикула неподражаем там, где его слово «легко», как бы мимолетно, где писатель не «выжимает» некую правду из самого слова, а лишь пользуется им, чтобы обозначить взятое из жизни, характерное, и в этом характерном, поданном непринужденно, словно мимоходом, открывает истинно человеческое, познавая таким образом изобразительную силу слова. Шикула ищет чистоту простых человеческих ценностей: непосредственного жеста, обычного понимания и сочувствия, хотя и не идет к этим ценностям напрямик, а тем более — не допускает сентимента. Не удивительно поэтому, что в его мире столь большая роль отведена детству.
Читать дальше
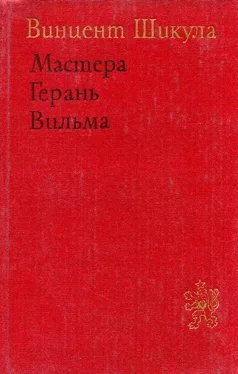

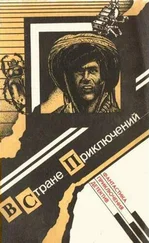
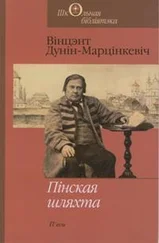
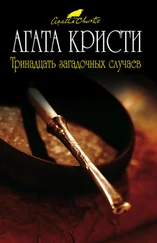
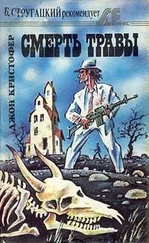
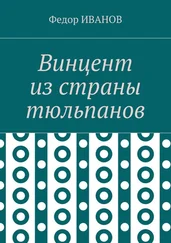
![Юго Вебер - Герань мистера Кавендиша [СИ]](/books/407249/yugo-veber-geran-mistera-kavendisha-si-thumb.webp)
