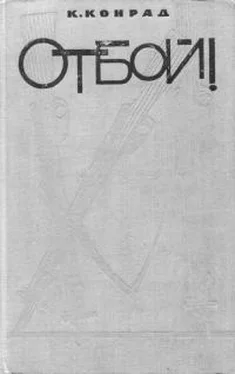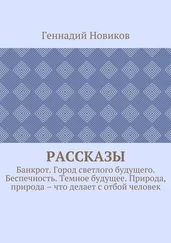— Как такой человек мог постичь строевую дисциплину? — долго размышлял Пепичек, когда мы укладывались спать. — Наверное, он и не думал об этом, а? Но как же он дотянул до wirklich [76] настоящего (нем.) .
кадета?
— У него изумительная память. Что услышит один раз, запомнит на всю жизнь. Наверное, он не спал в офицерском училище, как спали мы, и поневоле слушал, а потом на экзамене знал все назубок, — предположил я, зная исключительные способности Пуркине.
— Да. И потом он дворянин из прославленного рода, это тоже многое значит в армии, — пробормотал Пепичек, точно не вполне удовлетворенный моим объяснением. Он долго еще ворочался на койке. Я уже почти спал, когда он вдруг тронул меня за плечо:
— Эврика! Ведь он, наверное, медиком служит! Вот тебе и разрешена загадка его офицерских нашивок.
В тоне, каким говорил Пепичек, чувствовалось облегчение, словно он избавился от тяжких угрызений совести. И все же он продолжал ворочаться на койке. Что еще беспокоит его, не дает ему спать, несмотря на поздний час? Ах, он опасается, что завтра Пуркине уже не будет таким; может быть, Эмануэль только хотел очаровать нас? Но тут же Пепичек сам смеется над своими опасениями и несколько раз повторяет, словно не может натешиться этой мыслью: «Чтобы Эман старался очаровать!» «Эман — и очаровать!»
В учебной роте нам уже не удавалось спать во время классных занятий. Здесь было не так много слушателей, как в Rekrutenkompagnie, не было спасительной стены из тел, за которой можно спрятаться от глаз офицера.
Таким образом, к строевой нагрузке в Schulkompagnie прибавлялась еще и нравственная мука — изучение тактики и организации армии. Во время лекций нельзя было даже писать письма, так как офицеры, читавшие лекции, прохаживались между партами. Мы лишились привычного послеобеденного сна, которого властно требовали наши измученные жарой и маршировкой тела. На лекциях наши веки точно наливались свинцом.
Мы с Пепичком нетерпеливо ждали вечера, когда увидимся с Эмануэлем. В своем полку Эмануэль числился по санитарной части, хоть и в маршевой роте; относились к нему пренебрежительно. Однажды ему попробовали дать взвод, но он нарочно принялся командовать такой отчаянной фистулой, что рассмешил даже мрачных ополченцев, а начальству раз навсегда доказал свою полную неспособность к командованию взводом. С тех пор на него смотрели сквозь пальцы, и он ходил в хвосте роты со своим санитарным отрядом, которым за него командовал капрал. Он не принимал участия в учениях и постоянно читал даже на ходу или облокотись на придорожный камень. Каждая минута была ему дорога. Он погружался в научную литературу с таким спокойствием и сосредоточенностью, словно уже давно все мечи были перекованы на орала и торжественно провозглашен всеобщий мир.
— Я, знаете, привык к занятиям на ходу, — признался он нам. — Иной раз и споткнешься, да это пустяки, лишь бы не хромала память.
Потом он рассказал, как однажды за обедом испортил аппетит господам офицерам: вынул коробку из-под сигарет и сделал вид, что готовится показать фокус, Офицеры это очень любили и радостно насторожились. Но из коробочки выползли ящерицы. Эмануэль нежно гладил их и уверял, что они ласковы, как горлицы.
Обеды в Офицерском собрании, с распределением мест по чинам, а в пределах одного чина даже по стажу, безмерно претили Эмануэлю. Он ненавидел офицерское общество, относился к нему с фанатическим отвращением.
Нетрудно представить себе, что это было за общество. Во главе стола обычно восседал краснорожий полковник, лет пятидесяти, духовное убожество которого прямо-таки било фонтаном.
— Я не улыбнусь ни одной его остро́те, хотя бы меня щекотал весь генеральный штаб, — сказал нам Пуркине. — Знаете, все офицеры думают, что я немного ненормальный, для них это единственно возможное объяснение, ибо все они ржут, как жеребцы, после каждой полковничьей сальности. Моя репутация обосабливает меня от них. И слава богу, мне спокойнее.
В настроении Эмануэля Пепичек черпал силы для своей борьбы. Общение с Пуркине придавало ему смелости, стимулировало его изобретательность. Он обрел источник авторитетного одобрения, которого ему раньше не хватало, и получал даже больше похвал, чем было нужно, чтобы полностью удовлетворить тщеславие, будь оно вообще у Губачека. Эмануэль от души расхваливал Пепичка, особенно за юмористические подробности его борьбы с войной и за упорство в этой борьбе. Радуясь этим похвалам, «Чампа» не довольствовался своими прежними уловками; ему казалось, что этого уже мало, подумаешь, выдумка — отправляться по нужде в кусты или поправлять развязавшуюся обмотку, когда звучит команда «Бегом марш!»
Читать дальше