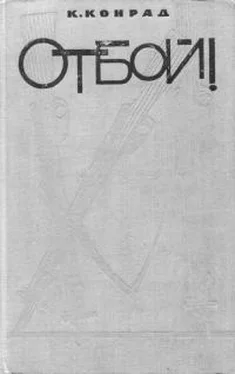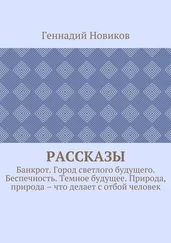— А я думаю, что тогда-то мы и помолодеем, Пепичек!
Я сказал это просто так, для утешения, не веря сам себе.
— Уверяю тебя, мы будем стары, как луна. Все, даже Газибара… Ну, хватит, давай наконец спать. Покойной ночи, брат мой!
В голосе Пепичка не слышно было ноток покорности, не утратил он и своей сдержанной проникновенности, но сильная усталость звучала в нем. Сказывался, видимо, упадок сил, вызванный недоеданием, сказывались лишения тех трех лет, когда ему приходилось в одиночку бороться с жизнью, лишения, на которые он никогда не жаловался даже собственному брату. В тоне Пепичка постоянно чувствовался оттенок горечи, даже когда он шутил; его тон необычайно располагал к себе.
Когда мне хочется вспомнить все наши тогдашние раз-говоры, каждую подробность, я восстанавливаю в памяти именно интонации его голоса. Тогда все видится мне ярче, чем даже когда я представляю себе глаза Губачека, кстати чрезвычайно выразительные. А этот разговор особенно запомнился мне именно своей тональностью, потому что лица Пепичка не было видно, да и обстановка была необычная: ведь если явится проверка и обнаружит, что выпущен арестованный, последствия несомненны — отчисление из училища. А уж в Загребе найдут, куда послать нас.
Я немного волновался, и это волнение усиливалось под влиянием жаркой южной ночи и чуждой природы, полной загадочных, незнакомых звуков. Чтобы успокоиться, я уставился в небо, на звезды, мысленно сравнивая звездное небо здесь и у нас дома. Маменька, наверно, сейчас идет по двору кормить гусей и думает обо мне. Я уже почти задремал, когда раздался конский топот. Я вскочил. В воротах прозвучало:
— Halt! Wer da? [52] Стой! Кто идет? (нем.)
Во мраке ночи раздался хриплый и протяжный голос:
— Gewehr heraus! [53] В ружье! (нем.)
Все бросились к винтовкам. Я затряс Пепичка.
— Отстань!
— Ради бога, вставай! Проверка!
— Отстань! Дай поспать!
— Пепичек, ты нас погубишь, черт тебя возьми! — Я затряс его изо всех сил, дергал за воротник, вцепился в волосы. Пепичек отбрыкивался.
В воротах, освещенных фонарем, уже показался офицер. Вот он поднялся по лестнице. Нельзя было медлить ни секунды. Я опрометью кинулся в строй, схватив по дороге винтовку. Не свою, чужую, ну да все равно. Сердце мое бешено колотилось.
Другие ничего не подозревали, считая, что тревога в воротах разбудила всех и Губачек, который спал под кактусом, в каких-нибудь десяти шагах, конечно, давно уже убрался в камеру, а конвойный в коридоре успел запереть за ним дверь.
Я был в ужасе. Если дежурный офицер настолько исполнен рвения, что навестил нас в два часа ночи, то наверняка он проверит наличие арестованных. Одного человека не хватит!
Шпоры звякнули на последней ступеньке. Вот он! Невысокий офицер остановился перед нами. Я даже не мог разглядеть его: от волнения у меня потемнело в глазах.
— Od dakle iste, gospodin dobrovoljac? [54] Вы откуда, господин вольноопределяющийся? (сербохорватск.)
— спрашивает офицер правофлангового Мирко Элиаша.
— Pokorno glasim, gospon obrlajtnant, svi iz Prage… [55] Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, из Праги (сербохорватск.) .
— O, iz Prage! [56] из Праги (сербохорватск.) .
— Офицер искренне обрадован. Он подает Мирко руку.
Я затаил дыхание. Вздох облегчения. Второму, третьему, четвертому, пятому — он всем подает руку. Но я все еще дрожу, как-то по инерции.
Офицер оказался бывшим преподавателем коммерческой школы в Загребе. Он долго расспрашивал нас о жизни в училище, выслушал все наши жалобы и утешил нас. Уходя, опять пожал всем руки и просил кланяться от него прекрасной Праге. Нашему товарищу у ворот, державшему его лошадь, обер-лейтенант всучил гульден: он, мол, не может безвозмездно принять услугу чешского интеллигента.
На радостях мы надавали крепких шлепков спящему Пепичку. Он брыкался сквозь сон, не подозревая о миновавшей опасности. Только утром, когда мы ему все рассказали, он вдоволь посмеялся над происшествием.
— Вот погодите, объявится как-нибудь ночью дух святой Варвары — то-то вы перетрусите.
Мы тоже смеялись. Но что, если бы это был кто-нибудь из офицеров-венгров? Задал бы нам баню начальник училища подполковник Кокрон!
Кокрон был типичный штабной офицер, в котором великолепно сочетались чиновное чванство с умственной ограниченностью профессионального вояки. Любопытная особенность: кончики его усов, а ля Вильгельм II, реагировали на всякое волнение их владельца. Совсем как наш школьный вольтметр на прикосновение эбонитовой палочки, натертой лисьим хвостом.
Читать дальше