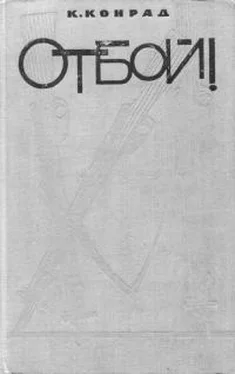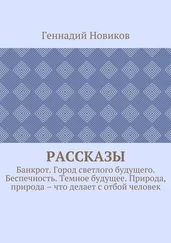Подобно всем солдатам, мы ни о чем не говорим с таким увлечением, как о родине. Этими разговорами мы растравляем себя почти до слез, напрасно терзая свое сердце.
Глядя на фиалки, мы вспоминаем наших девушек с букетиками фиалок на груди, потом родной дом, родителей, их милые голоса, жесты. Каждый из домашних сейчас предстает в нашем сознании ярче и отчетливее, чем в те времена, когда мы могли беспрепятственно видеть их рядом. Тогда мы как-то не замечали родного дома.
Вспоминаю сестер: сколько раз, бывало, я ссорился с ними, ябедничал на них. Как я сейчас неистово люблю их!
Вторым предметом наших грез была кухня — домашняя кухня, плита, кухонный шкаф с тарелками, ножами, вилками, ложками и зеленой жестяной хлебницей, в которой лежит каравай.
Хлеб! Kruha, kenyér, il pane, bread, le pain, das Brot — вот она, величайшая поэма мировой войны.
А подо всем этим, под неотвязными мыслями о еде и о родном доме, словно водяной знак на гербовой бумаге, неотступно проступает мысль: наша жизнь под угрозой, нас могут убить, мы даже не познаем радостей любви…
Среди нас нет никого, кто дал бы другое направление разговору. Пепичек, наверное, сделал бы это, ведь у него нет семьи. Мы вспоминаем его чемодан с книгами. Но Пепичка нет среди нас. Уже на другой день после приезда Тощего кота перевели к больным солдатам под наблюдение врача. Какое счастье, что он избежал мести оскорбленного фельдфебеля! Не выдержать бы ему здешнего обращения. Как нам сейчас не хватает благородства Губачека, его душевной стойкости, презрения ко всему военному. Он умеет относиться к солдатчине так, словно не имеет к ней никакого отношения. В его присутствии мы меньше поддаемся тоскливым воспоминаниям. Мы словно стесняемся вздыхать и грустить.
Ура! Сегодня вечером мы уезжаем в Фиуме. Но наша радость была недолгой. Нам выдали по сто двадцать боевых патронов, и это сильно обеспокоило нас. К чему патроны? Не перебрасывают ли нас прямо на фронт? Нам выдали шанцевый инструмент, горные сапоги и новое обмундирование цвета хаки, какое дается только маршевым частям.
В момент сильнейшего возбуждения, когда мы шумели, перебивая друг друга, в комнату незаметно вошел Пепичек с грузом такого же снаряжения, увязанного в палаточное полотно. Доктор признал его годным и отправил обратно в строй. За время пребывания в лазарете Пепичек отлично усвоил жаргон старых госпитальных крыс. Но он употреблял все эти словечки в воображаемых кавычках, как великолепные гиперболы, или с сатирическим оттенком, вплетая в свою речь хорватскую брань, смягченную иронической интонацией. Его приход и манера обращения пришлись нам так кстати!
— Вы, филоны, так вас перетак, добровольцы! — начал он. — Zašto prčkate? [40] Чего раскисли? (искаж. сербохорватск.)
Разве был бефель [41] приказ (нем.) .
сдавать в обоз чемоданы? Уж не думаете ли вы, что мы пойдем с ними на итальянцев? А приказ zum Gebet [42] на молитву (нем.) .
был? То-то! Без божьего благословения такое дело разве пойдет? Шиш! Нет, перетрусившее пушечное мясо, вас просто переводят в Риеку. А все это барахло — ваше свадебное Ausristung [43] снаряжение (искаж. нем.) .
. Ведь там кригсгебит, фельдпост фирхундертзекс [44] военная зона, полевая почта четыреста шесть (искаж. нем.) .
. Надо все иметь с собой, как на походе. Ну, марш! Abtreten, rauchen erlaubt! [45] Курить разрешается (нем.) .
Наше приданое было увесисто: учебное и летнее обмундирование, собственный чемодан да еще полное боевое снаряжение.
Фельдфебели нашли способ отомстить нам за тот «позор!». По установившейся традиции вещи вольноопределяющихся при отправке их в училище доставлялись на телеге к вокзалу. Это не было любезностью по отношению к будущим офицерам, нет, человеку было просто не по силам нести такой багаж через весь город, на главный вокзал, Državni Kolodvor.
Но нас заставили сделать это.
Ужасный путь!
Без багажа мы были бы на вокзале через сорок пять минут. Но мы плелись почти четыре часа. Нам казалось, что от натуги у нас лопнут жилы. Через каждые двадцать-шагов, а под конец через восемь — десять, мы буквально валились на землю вместе с вещами. Пот лил с нас градом, руки покрылись кровавыми мозолями. После часа пути мы уже не могли передвигаться иначе, как перенося вещи по отдельности. Мы брали сверток с обмундированием и амуницией, проходили с ним несколько шагов, клали на землю и возвращались за чемоданом. Наши руки, обессиленные, исколотые бесчисленными прививками против холеры, тифа, уже не в силах были поднять чемоданы, и мы тянули их волоком по земле. Так мы прошли всю улицу, миновали кафе «Океан», излюбленное место развлечения вольноопределяющихся 53-го полка; в кафе были чешские арфистки, исполнявшие песенку «Деревенька моя на Шумаве».
Читать дальше