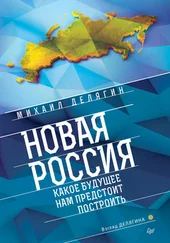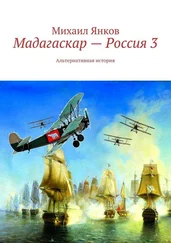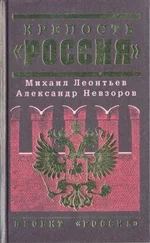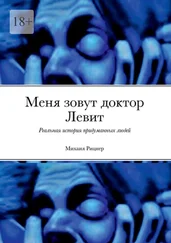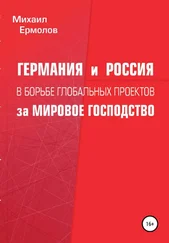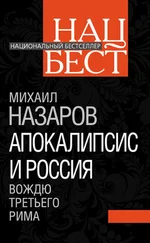1967 Дерматоглифические исследования воспитанников трудовой колонии несовершеннолетних . Студ. III курса М. Рицнер // XXII научная студенческая конференция.
1969 Пальцевая и ладонная дерматоглифика у олигофренов степени дебильности . Студ. III курса Н. Костина, студ. II курса Е. Гладенко, Н. Ковалева, Е. Базилевская, студ. IV курса М. Рицнер // XXVI научная студенческая конференция.
1968 К вопросу об этиологии олигофрении . Студ. IV курса М. Рицнер, Л. Свечкова, студ. III курса Е. Базилевская, О. Константинова, Н. Костина, Т. Мечетнер, студ. II курса Н. Ковалева, Е. Гладенко, Е. Малаханова, Б. Толчинский, Ю. Кочкин, В. Атласов, Т. Старостина // XXIII научная студенческая конференция.
1970 К оценке активности тирозинаминотрансферазы и триптофанпирролазы при олигофрении . Студ. V курса М. Рицнер // I Дальневосточная научная студенческая конференция «Экспериментальная и клиническая ферментология».
Профессор Маслов руководил мной, а я кружком. Этот опыт мне пригодился при создании своей научной лаборатории в академическом институте.
Во время каникул летом 1966 года я работал фельдшером скорой помощи в Биробиджане. Последнее время меня интересовала возможная роль генетики в криминальном поведении подростков. Поводом послужила теория так называемого «прирожденного преступника» Чезаре Ломброзо, согласно которой преступниками не становятся, а рождаются.
Чезаре ЛОМБРОЗО (1835–1909) — итальянский тюремный врач-психиатр, родоначальник антропологического направления в криминологии и уголовном праве. Он одним из первых предпринял систематическое исследование преступников. Он объявил преступление естественным явлением, подобным рождению или смерти («Преступный человек», 1876). В конце XIX века на международных конгрессах по уголовной антропологии теория антропологической преступности была признана в целом ошибочной, но интерес к роли генетических и конституциональных факторов сохраняется до сих пор.
Когда я рассказал о желании изучить этот вопрос биробиджанскому невропатологу Илье Абрамовичу Шехтеру, то получил поддержку и помощь. Он договорился с начальником местной трудовой колонии для осужденных подростков в Биробиджане, куда мы получили допуск для исследования. Илья Абрамович Шехтер был лет на пятнадцать старше меня, выше среднего роста, худой, страдал язвой желудка. Он обладал выразительным лицом, картавил и умел «иметь дело с людьми». Его карьера пролегла через невропатологию и должность заведующего городским отделом здравоохранения к должности главного врача областной больницы. Несмотря на нашу разницу в возрасте, он спокойно принял мое «научное руководство» и, обладая административными ресурсами и связями, использовал их для продвижения наших проектов.
Я набросал проект, и мы начали обследовать 14–16-летних воспитанников трудовой колонии, где было более 500 подростков. На каждого подростка заполнялась подробная социально-психологическая анкета и брались отпечатки пальцев и ладоней для изучения дерматоглифики. Анализ результатов этой анкеты показал «особый профиль» молодых преступников. Слабоумных и душевнобольных среди них не было. Были либо «лидеры», либо «ведомые» в пропорции примерно 1:15. Попав впервые в колонию, они там «обучались» новой профессии, и после «выписки» домой около 25 % возвращались в колонию в течение года. Вот такая «регоспитализация». Когда эта и другая информация дошла до компетентных органов, нас пригласили в прокуратуру. Внимательно выслушав результаты, подчеркнуто вежливо попросили принести все материалы и научный отчет. Пару месяцев спустя нас пригласили еще раз, поблагодарили за работу и запретили публиковать результаты и выводы. Начальника колонии, позволившего нам собрать данные, перевели с понижением на другую работу. Как оказалось, наше исследование было идеологически вредным, так как не соответствовало коммунистической идеологии. В тот период в советской печати даже самые осторожные попытки указать на то, что генетика, биология и личность играют какую-то роль в антисоциальном поведении, вызывали решительные окрики властей: «Биология тут ни при чем». Например, в публикации «Коэффициент интеллектуальности» [32] «Радиотелевидение», 1966, № 27.
талантливый ученый Михаил Д. Голубовский , популярно освещая «метод близнецов», привел опубликованные за рубежом данные о высокой повторяемости у однояйцевых близнецов таких качеств, как музыкальные способности, склонности к абстрактному мышлению и к криминальным действиям. Два доктора юридических наук, И. И. Карпец и А. А. Гершензон, негодовали по этому поводу, так как это противоречило программе партии, где было сказано, что преступности при коммунизме не будет. Следовательно, генетической предрасположенности к ней нет и быть не может, писали они в заметке «Биология здесь ни при чем». Программа КПСС не у всех вызывала доверие, да и Н. С. Хрущев уже был не при делах. Однако М. Д. Голубовского обвинили в ревизии основных положений марксизма-ленинизма. Данная публикация специально обсуждалась на заседании ученого совета Института цитологии и генетики СО АН СССР, где работал М. Д. Голубовский (17 февраля 1967 года). Надо сказать, что сотрудники подвергли критике публикацию юристов и поддержали Голубовского. Позднее юрист И. И. Карпец опубликовал в соавторстве с генетиком Н. П. Дубининым и В. Н. Кудрявцевым книгу «Генетика, поведение, ответственность» (1982), в которой широкое распространение преступности в СССР объяснялось тем, что в стране еще не закончено построение коммунистического общества . Вот такими были уровень науки и «советская среда обитания».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу