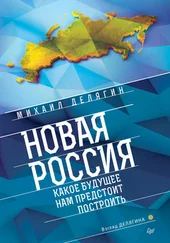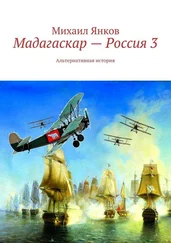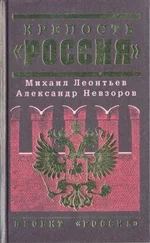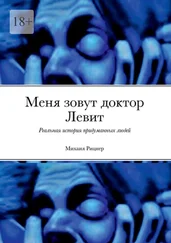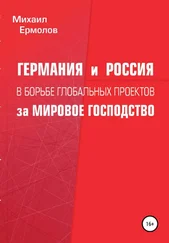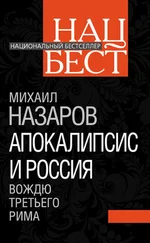Бумага и люди стерпели, Страны Советов давно нет, а Михаил Голубовский стал известным ученым в области общей, популяционной и эволюционной генетики, ныне работает в Berkeley University (Калифорния, США) [33] Голубовский М. Д: www.vestnik.com/issues/2000/0201/win/golubovsk.htm
. К этому времени я уже почерпнул немало базисных знаний по генетике человека и «блефу марксизма-ленинизма». Изменив название выборки с «молодых преступников» на «группу русских подростков», мы с Ильей Шехтером опубликовали только дерматоглифические данные, без их интерпретации. Статьи вышли в журнале Института антропологии Московского государственного университета (МГУ, Москва). Здесь работала Татьяна Дмитриевна Гладкова — замечательная женщина и ученый, с которой я переписывался по вопросам дерматоглифики много лет. Однако вернемся в альма-матер.
Четвертый и последующие курсы (1968–1971) были заполнены клиническими дисциплинами на факультетских и госпитальных кафедрах. Занятия проходили в разных клиниках города. Мы учились разговаривать и обследовать больных, писать истории болезни, врачебному мышлению и этике, ассистировать на операциях и многому другому. Мне особенно запомнились терапевты — доцент Илья Зиновьевич Баткин (впоследствии д. м. н., проф.), проф. Борис Залманович Сиротин (1928–…) и проф. Лев Исаакович Геллер (1930–1994), гинеколог — проф. Василий Федорович Григорьев (1921–2007), хирурги — проф. Серафим Карпович Нечепаев (1905–1971), проф. Игорь Анатольевич Флеровский (1921–1998) и проф. Григорий Леонтьевич Александрович (1915–2000) и уролог — проф. Алексей Михайлович Войно-Ясенецкий (1935).
И. З. Баткин великолепно показывал методику осмотра больного, Б. З. Сиротин учил нас клиническому мышлению, а Л. И. Геллер ко всему прочему был очень продуктивным исследователем. Разбирая любой клинический случай, он фонтанировал идеями для исследования. Многие из его идей были реализованы и опубликованы. Мне было у кого учиться и с кого брать пример. Ментальность хирургов была иной: они говорили меньше, имели более жесткие критерии принятия решений, да и решения были связаны с оперативными вмешательствами. Учить и сдавать хирургию было легче. Однажды на кафедре психиатрии мне довелось познакомиться с легендарной личностью — профессором Иваном Борисовичем Галантом (1893–1978). Его история была особенной.
Профессор Галант был живой легендой. Ивану Борисовичу, как еврею, из-за процентной нормы трудно было поступить в какой-либо из университетов Российской Империи, и поэтому он уехал в Германию. Свободно владея немецким, французским и итальянским, Галант поступил в Берлинский университет (1912). Свою научную деятельность он начал еще в студенческие годы в психиатрической клинике профессора Е. Блейлера (Цюрих). В 1935 году И. Б. Галанта направили в Хабаровск на должность главного врача психиатрической больницы и для создания кафедры психиатрии в ХГМИ. В 1937 году профессора по доносу арестовали и обвинили в том, что он «допустил халатность» при подборе больных для лекционных демонстраций. В результате один больной рассказал во время демонстрации контрреволюционный анекдот. Через два года его освободили и реабилитировали. И. Б. Галант как-то не вписывался в советскую действительность. Например, он на основе анализа последних произведений Сергея Есенина и газетных публикаций о самоубийстве поэта сделал вывод, что это был душевнобольной человек. По его мнению, поэма «Черный человек» дает «ясную типичную картину алкогольного психоза», которым страдал Есенин. В 1948 году комиссию парткома смутили статья профессора «Кретинизм в марксизме» и переписка И. Б. Галанта с Максимом Горьким, отраженная в монографии «Психозы в творчестве Максима Горького». Кто его только не критиковал за это! Более 30 лет И. Б. Галант руководил кафедрой психиатрии. Будучи пенсионером, он продолжал будоражить народ, участвуя в заседаниях психиатрического общества и являясь непререкаемым авторитетом в консультировании.
Иван Борисович был невысоким, очень подвижным и эксцентричным человеком. Он мог удивить окружающих каким-нибудь неординарным поступком, казаться странным и нередко даже нелепо-смешным. Профессор ходил по клинике как-то боком, прижимая правой рукой старый затертый портфель с одним замком. На приветствия тщательно раскланивался. Однако, несмотря на все странности, это был человек высокой культуры, очень приветливый, доброжелательный и справедливый. Он никогда не повышал голоса и, будучи в жизни немногословным, мог вести длительные беседы с больными, вызывая их на откровенность. «Вы не сможете так освоить психиатрию, как Бехтерев, но вам следует обязательно соблюдать все правила медицинской деонтологии, то есть этики», — говорил он студентам и врачам.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу