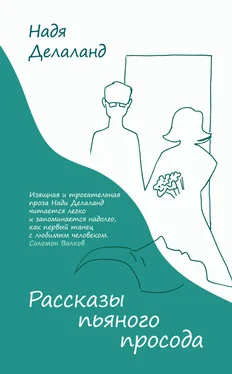– Я здесь поэтому? Потому что, узнай я о каком-то тайном изъяне моего мира после смерти, я не смогу его исправить?
Старик кивнул. Я вдруг заметила, что за время нашего разговора он сделался меньше. То есть он был по-прежнему высоким, но все-таки не таким великанским, как сначала. Осталось в нем, наверное, около двух метров.
– Но я не знаю, что это за упущение. Надо подумать, побыть здесь подольше.
– Тебе лучше побыть тут одной, – сказал старик хитровато.
Он поднялся. Длинные одежды волочились по земле. Двух метров в нем, конечно, не было. Хорошо, если он был чуть выше меня. Я смотрела, как он удаляется, волшебно не путаясь в белых складках. Что-то изменилось в его походке, я не сразу поняла, но она стала какой-то более подвижной, что ли? Она стала – женской?! В этот момент старик обернулся и посмотрел на меня новым лицом. Старым знакомым, все еще женским, лицом. Тем самым, которое каждый день смотрело на меня из зеркала.
«Да, – подумала я, со всей безысходностью понимая, что оставила сигареты дома в сумке, – это в самом деле серьезно. Одиночество для меня, конечно, дело привычное, но обречь себя на него на всю жизнь после смерти – надо десять раз подумать».
И мне внезапно остро захотелось подумать об этом с другой стороны зеркала. Без особых приключений вернувшись в темную ванную, я пошла в спальню (на электронных часах было зеленое без трех минут двенадцать, идиоты электричество не отключали, надо бы в ванной лампочку поменять) сомнамбулически разделась и легла. В шесть часов пропищал будильник.
Стоя в подрагивающем поезде метро, я чувствовала, что изменилась. Ночное перемещение оказалось тем главным пазлом, благодаря которому мое представление о жизни и смерти начало складываться во что-то осмысленное.
Мне стало страшно остаться навечно наедине с собой, погрузиться в себя, сослать себя без права переписки. Это как сойти с ума. Сумасшествие всегда пугало меня сильнее всякого физического уродства и урона. Но что делать с моим врожденным одиночеством, с моей неспособностью нуждаться в людях, любить людей так же, как времена года, оранжевый цвет и мандариновое варенье – я не знала. Я никогда не умела пустить в себя другого человека, зная, что окажусь совершенно беззащитной на своей территории. Пустить в себя, разобрать баррикады, расслабиться – «а, пусть делают, что хотят», наблюдать, свидетельствовать?..
Странно, кажется, теперь я могла себе это позволить.
Дикторский голос патетически объявил мою остановку. Кто-то из вошедших уверенно пихнул меня в бок, но я удержалась на ногах, более того, продвинулась ближе к двери. Несколько человек поменялись между собой местами, я заняла окончательно удобное положение, посмотрела на несущуюся ночь в окне, помаргивающие отражения пассажиров – и вдруг заметила старика из зеркала.
Он восседал в своих длинных одеждах, держа посох между колен, и смотрел на меня в упор. Поймав мой взгляд, он улыбнулся. Я резко обернулась. Старик спал, приоткрыв рот, покачиваясь в такт движению поезда. На нем была черная кожаная куртка, кашне, волосы и борода были достаточно короткими, – и все-таки это был он. Я снова посмотрела в зеркало окна, но в это время поезд выехал из тоннеля на свет и воздух. Когда мы вернулись в подземелье, старик в стекле уже не отражался. А на его месте сидел какой-то мужик. Наверное, я слишком вызывающе его разглядывала, потому что он тоже обратил на меня внимание. Господи… да это же Димка! Ну ничего себе! Как ты здесь? Давно?
_____
Пьяный просод закончил.
– Слушай, вот объясни мне – ты не помнишь истории, которые рассказываешь, но знаешь, что означают все эти странные реалии, которые ты в них упоминаешь?
– Поскольку я не помню самих историй, то не понимаю, и о каких странных реалиях идет речь, – пробурчал просод. – Хотя не совсем. Дело в том, что у меня еще бывают сны. Вот их я как раз запоминаю. Например, сегодня мне снилось, что я встречу тебя. И хотя я не сразу узнал твое лицо, я ждал, что ты появишься.
– Это и есть твоя тайна?
– Нет, это только часть моей тайны. Понимаешь, когда я рассказываю свои истории, я становлюсь кем-то другим. И недавно я понял, кем. Через много-много лет на свет родится одна девочка. Она не будет знать греческого языка, хотя в роду у нее будут греки. И вот она вырастет и станет сочинять истории, которые я сейчас рассказываю.
– Звучит довольно безумно, – сказала я сдержанно. Меня почему-то раздражали такие тайны. То есть в историях, которые, понятное дело, выдуманы, мне они нравились, но когда кто-то пытался всякие бредни выдавать за правду, я начинала злиться.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу