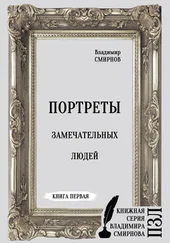Если бы Россия не была столь богата талантами и по-купечески, то есть по-хамски, расточительна, стихи Арсения Тарковского учили бы в школе, с их помощью прививали чувство языка и развивали вкус. Но…
А если уж говорить об уроке подрастающему поколению, да и всем переросшим тоже, то он явлен в самой жизни Арсения Александровича Тарковского.
Родившийся в Елисаветграде Херсонской губернии 25 июня (нового стиля) 1907 года Арсений уже в шесть лет вместе с отцом, служащим банка, посещал поэтические вечера Ф. Сологуба, Северянина, Бальмонта. Возможно, это и определило его судьбу. Во всяком случае, хотя у Тарковского были золотые руки, своим главным делом в жизни он всегда считал Слово. В 1925 году поступил в Москве на первый курс Высших литературных государственных курсов при Союзе поэтов, в конце двадцатых начал работать в знаменитой тогда газете «Гудок». А в тридцатые, познакомившись с Георгием Шенгели, тогда сотрудником отдела литературы народов СССР, стал заниматься переводами и как переводчик был принят в Союз писателей.
Началась война. Комиссия признает Тарковского негодным к военной службе. Но он просится в действующую армию и в декабре 1941-го получает разрешение.
В 1943-м гвардии капитана Тарковского награждают орденом Красной Звезды. В декабре этого же года после тяжелого ранения ему ампутируют правую ногу.
Удивительно, что никаких преференций как участник и инвалид войны Тарковский не получил. Он даже не попал в обойму поэтов-фронтовиков, которых после войны стали издавать и поминать в печати как «активно работающих в литературе». Тарковский проходил по ведомству переводчиков, был одним из «квадриги» (определение Липкина) вместе с самим Семеном Израилевичем, Аркадием Акимовичем Штейнбергом и Марией Сергеевной Петровых. Поэтическими переводами тогда можно было жить, но…
…Для чего я лучшие годы
Продал за чужие слова?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.
Другой возможности существования в литературе, кроме переводов, Тарковскому не оставили. В 1946 году после постановления ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» (а Тарковский уже был хорошо знаком и даже дружен с Ахматовой) его первую «свою» книгу «Стихотворения разных лет», набранную в «Советском писателе», уничтожили.
От восточных переводов было никуда не деться. И Тарковский блестяще перевел классика туркменской литературы Махтумкули.
Первая книга собственных стихов Тарковского «Перед снегом» вышла только в 1962 году, когда автору сравнялось 55 лет. Ничего себе поэтический дебют!
Но это вообще был счастливый год для Арсения Александровича – в том же году его сын Андрей получил Гран-при Венецианского фестиваля за фильм «Иваново детство».
Сам Арсений Александрович при жизни никаких премий не получал – только посмертно в ноябре 1989 года (скончался он 27 мая) ему дали Государственную премию.
А еще за пять лет до этого, в 1984-м «черненковском» году, в «Комсомольской правде» гордились, что, несмотря на цензурные сокращения, удалось напечатать мое интервью с Тарковским…
Так в чем же урок этой судьбы – привычно тяжелой, как судьбы большинства русских поэтов?
А урок как раз в умении быть счастливым и даже беспечным, несмотря на внешние обстоятельства!
Тарковский был счастлив со своей последней женой Татьяной Алексеевной Озерской, переводчицей доброй половины западной приключенческой классики. Он был счастлив, мастеря мебель, слушая птиц и играя в шахматы в Переделкине. Весело плавал в переделкинском пруду, проворно отстегивая протез и допрыгивая до воды на одной ноге. Гордился успехами Андрея. Радовался общению с друзьями и молодыми поэтами. «Счастье на простых путях», – писал Пушкин.
Но более всего счастлив Тарковский был в творчестве. Ему писалось и в поздние годы, да как! Какое значение по сравнению с этим имеют издания, признание, почести, даже слава, вдова счастья?! Вот стихотворение семидесятилетнего Тарковского:
В магазине меня обсчитали:
Мой целковый кассирше нужней.
Но каких несравнимых печалей
Не дарили мне в жизни моей:
В снежном, полном веселости мире,
Где алмазная светится высь,
Прямо в грудь мне стреляли, как в тире,
За душой, как за призом, гнались;
Хорошо мне изранили тело
И не взяли за то ни копья,
Безвозмездно мне сердце изъела
Драгоценная ревность моя;
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Олег Хлебников Заметки на биополях [Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве] [сборник litres] обложка книги](/books/387936/oleg-hlebnikov-zametki-na-biopolyah-kniga-o-zamecha-cover.webp)
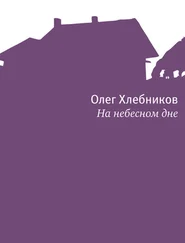

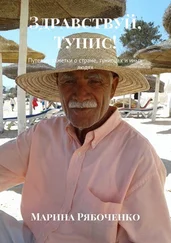
![Олег Дивов - Назад в космос [сборник litres]](/books/385490/oleg-divov-nazad-v-kosmos-sbornik-litres-thumb.webp)
![Олег Данильченко - Имперский вояж - Из варяг в небо. На мягких лапах между звезд. Чужая война. Тропинка к Млечному Пути [сборник litres]](/books/389801/oleg-danilchenko-imperskij-voyazh-iz-varyag-v-nebo-thumb.webp)
![Олег Батлук - Исповедь старого молодожена [сборник litres]](/books/390327/oleg-batluk-ispoved-starogo-molodozhena-sbornik-l-thumb.webp)
![Олег Кожин - Зверинец [сборник litres]](/books/390784/oleg-kozhin-zverinec-sbornik-litres-thumb.webp)
![Роман Волков - Большая книга ужасов – 83. Две недели до школы [сборник litres]](/books/435631/roman-volkov-bolshaya-kniga-uzhasov-83-dve-nedeli-thumb.webp)