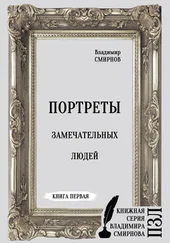Выступали Окуджава, Искандер, Евтушенко, Левитанский, Козаков, Валентин Никулин, Рафик Клейнер, Гелескул, Рассадин, Татьяна Бек, Либединская, композитор Борис Чайковский, правозащитник Павел Литвинов… Всех не перечислить. Вечер вели мы с Юрой Ефремовым (вроде как два самойловских ученика).
Зал был битком – стояли и сидели в проходах, в открытых дверях, хотя в Москве, в свою очередь, стоял очень жаркий день 1 июня…
В первой половине девяностых ЦДЛ и близко ничего подобного не видел.
…Сейчас, дописав все это, прилег на самойловский диван, на котором возлежал еще тридцать лет назад. Этот диван вместе с письменным столом, книжными шкафами, любимым самойловским полукреслом и т. д. – из московской квартиры Самойлова – купила у Галины Ивановны моя Аня. Более новую мебель Галина Ивановна привезла из Пярну (дом там пришлось продать за бесценок ввиду геополитической ситуации) и поставила в единственном теперь самойловском доме. В котором живет вместе с сыном Петрушей.
А домовина – в Пярну. За могилой следят пока еще оставшиеся в Эстонии друзья Самойлова. Что же касается самих благочинных эстонцев…
Видел я могилу Игоря Северянина в Таллине – если б был Геростратом, унес бы небольшую и скромную, в отличие от самого Северянина, могильную плиту в сумке: она была не закреплена и валялась около холмика…
Последнее письмо от Самойлыча я получил в самом конце 1989 года. В нем содержался отзыв о моей только что вышедшей тогда книжке «Наземный переход» с очень важными для меня словами (например, про то, что в ней «нет усталости стиха») и было настойчивое приглашение приехать в Пярну на новогодние «каникулы».
В предновогодней суете я не ответил сразу. Да и после празднования рокового для Самойлова 1990-го тоже не поспешил, так же как и приехать, а ведь собирался!
Потом клял себя.
А ответил я на последнее письмо Самойлова только спустя восемнадцать лет – стихами:
Ответное письмо
Дорогой Давид Самойлыч!
Я, дурак, Вам не ответил
на последнее письмо.
Грех – не отрицаю – мой лишь,
хоть трепал листочки ветер
перемен и гнал дерьмо.
Кстати, эти перемены
всех оставшихся задели.
А командуют опять
к у мы нашей ойкумены –
каждый вышел из шинели
Феликса и тоже – тать.
Хорошо, что Вы далёко –
нынче тут не чтут поэтов,
некому стишок прочесть.
Ни в отечестве пророков,
ни у разных-прочих шведов…
Хорошо, хоть водка есть.
У меня же всё в порядке:
всё работаю в газетке –
значит, к водке есть жратва
и в излюбленной тетрадке
незаполненные клетки –
будет где держать слова.
На троих со Станиславом Борисовичем Рассадиным мы тоже часто соображали (то в компании с редактором «Новой» Муратовым, то с Михаилом Козаковым, то еще с кем-то). Особенно в последние годы его жизни, когда, лишившись ноги из-за диабета, он уже не вставал, зато охотно сидел за столом с посещавшими его друзьями. Но чаще – все же на двоих. И о многом, что здесь написано, говорено-переговорено с ним во время этих посиделок.
Едва подойдя к его подъезду в доме на Ленинском проспекте, где он жил в маленькой, переполненной книгами квартирке (казалось, он играл на этих книжных полках, как на органе), можно было услышать его крик: «Светла-а-ана!» Это он звал свою домоправительницу-сиделку.
Звал нетерпеливо, почти свирепо. Но на самом деле относился к ней и ее сыну очень тепло и доверчиво, возможно, слишком доверчиво. И получилось, что он просто уже не мог обходиться без их помощи. А может, и не хотел. Если б освоил костыли или инвалидное кресло, ему было бы не удержаться от посещения комнаты покойной любимой жены Али. А это было выше его сил. Та комната, где он лежал, была все же его кабинетом, сугубо личным пространством, защищенным от бренности мира любимыми вечными книгами…
Но не только о вечном отстукивал он свои тексты на пишущей машинке в этом кабинете.
С его легкой руки появился термин «шестидесятники», обозначивший сначала поколение поэтов, потом шире – писателей, потом еще шире – людей демократических, «последвадцатосъездовских» упований.
Он не был рад своему авторству. И все-таки… Ну, во-первых, человек, придумавший слово (разумеется, всерьез вошедшее в обиход), бессмертен. А во-вторых, он постоянно уточнял этот термин, демонстрировал расширительность понятий «шестидесятники» и даже «шестидесятые» – не просто такие-то годы века, а общественное явление: «…смерть Булата Окуджавы в 1997-м стала завершением шестидесятых годов… Шестидесятые, повторю, завершились в конце девяностых».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Олег Хлебников Заметки на биополях [Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве] [сборник litres] обложка книги](/books/387936/oleg-hlebnikov-zametki-na-biopolyah-kniga-o-zamecha-cover.webp)
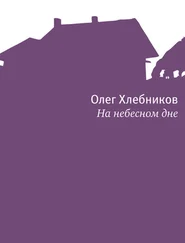

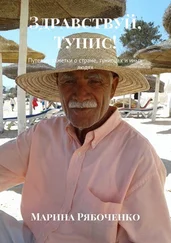
![Олег Дивов - Назад в космос [сборник litres]](/books/385490/oleg-divov-nazad-v-kosmos-sbornik-litres-thumb.webp)
![Олег Данильченко - Имперский вояж - Из варяг в небо. На мягких лапах между звезд. Чужая война. Тропинка к Млечному Пути [сборник litres]](/books/389801/oleg-danilchenko-imperskij-voyazh-iz-varyag-v-nebo-thumb.webp)
![Олег Батлук - Исповедь старого молодожена [сборник litres]](/books/390327/oleg-batluk-ispoved-starogo-molodozhena-sbornik-l-thumb.webp)
![Олег Кожин - Зверинец [сборник litres]](/books/390784/oleg-kozhin-zverinec-sbornik-litres-thumb.webp)
![Роман Волков - Большая книга ужасов – 83. Две недели до школы [сборник litres]](/books/435631/roman-volkov-bolshaya-kniga-uzhasov-83-dve-nedeli-thumb.webp)