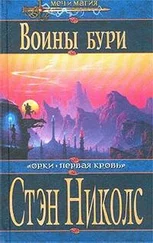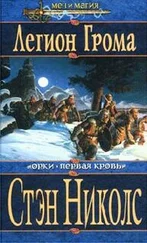Ивлин медленно открыла глаза. Надзирательница склонилась над кроватью, вглядываясь ей в лицо с таким любопытством, словно желая определить, умерла она уже или опять провалилась в беспамятство. Ивлин страшно боялась, что ее начнут бить по щекам, чтобы привести в чувство. Надзирательница была рослой и широкоплечей, с большими белыми ладонями, и, когда она увидела, что Ивлин пришла в себя, отступила и беззлобно спросила:
— Может, выпьете чего-нибудь?
И подала Ивлин кружку воды. Ивлин приняла ее обеими руками. Они казались неуклюжими, гнулись с трудом и болью, будто забыли, что значит быть руками. В кружку она вцепилась так крепко, как могла. Ей казалось, что если она выронит кружку, то непременно расплачется. Слезы заранее подступили к глазам. Звон в ушах усилился настолько, что она чуть не падала в обморок. А падать в обморок нельзя — теперь, когда у нее в руках холодная вода.
На вкус вода ничем не напоминала обычную земную. Вкус у нее был особым, изысканным и прекрасным, а сама вода — прохладной, восхитительной и, как ни странно, пьянящей, словно вино. Ивлин пила медленно, смакуя каждый глоток. И понимала, что ей больше никогда не доведется пить напиток столь же великолепный, как этот.
Надзирательница дождалась, когда Ивлин напьется, потом протянула ей сложенный листок бумаги. Разум узницы был не в состоянии осмыслить, что это такое; слова расплывались и прыгали перед глазами. Понадобилось прочитать текст на бумаге несколько раз, чтобы уловить в нем смысл. Ее отпускали из тюрьмы по особому разрешению на семь дней. Она провела в Холлоуэе без еды и питья шесть ночей. Через семь дней ей придется вернуться сюда и отбыть оставшиеся восемь дней срока. Она чуть не залилась истерическим хохотом. Ей удалось убедить их отпустить ее — и ради чего? Через семь дней весь этот непотребный фарс повторится. Ей вспомнилась миссис Панкхёрст, периодами по шесть дней отбывшая трехлетний срок заключения, и Ивлин исполнилась новым уважением к ней. Хватит ли ей самой смелости проходить одно и то же испытание вновь и вновь?
Две надзирательницы посадили ее в такси и назвали водителю адрес. Ивлин откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. В машине было холодно, она задрожала. Почему надзирательницы не мерзнут? Может, все дело в голодовке? Или у нее начинается какая-нибудь болезнь? Наверное, так и есть. Еще никогда в жизни она не чувствовала себя настолько слабой и усталой.
Такси свернуло на их улицу и остановилось перед домом. Очень странно было видеть, что дом все еще стоит на прежнем месте и выглядит точно таким же, каким она оставила его. Неужели в прошлый раз она видела его всего семь дней назад?
Одна из надзирательниц осталась в такси вместе с Ивлин, другая подошла к двери и позвонила. После ожидания, которое показалось бесконечным, дверь открыла служанка Айрис, о чем-то поговорила с надзирательницей, заглянула в машину, где Ивлин в своем легком пальто ежилась, как от зимнего мороза, и наконец скрылась в доме. Что это с ней? Потом в дверях появилась миссис Торнтон, пробежала по садовой дорожке к такси и открыла дверцу.
— Ах, Ивлин! — воскликнула она, и Ивлин с изумлением увидела на ее лице слезы. Ее энергичная и благоразумная мама плакала на улице!
Они вошли в прихожую, Хетти глазела на них с лестницы, мать закричала, призывая кого-нибудь на помощь. Ступеньки оказались ужасно крутыми; поднимаясь по ним, Ивлин всхлипывала от боли на каждом шагу, и матери с мисс Перринг пришлось почти на руках нести ее наверх. А там уже ждали и постель в теплой комнате, и огонь в камине, и свет вливался в окна — такой яркий, что резал глаза. Камины в спальнях детей Коллис летом топили только в случае болезни. «Значит, я и вправду больна», — думала Ивлин.
Врач со старомодным черным викторианским саквояжем о чем-то беседовал с мамой, стоя поодаль. «О чем вы там говорите?» — Ивлин казалось, что она кричит, но на самом деле она не издала ни звука. « Со мной все хорошо , — хотелось объяснить ей. — И вовсе я не больна. Просто устала ». Но никто ее не слушал.
Мама уговаривала ее выпить чашку молока — до нелепости густого, жирного, как сливки. Ивлин одолела лишь полчашки, а потом закашлялась и заплакала от тошноты и усталости. На ее руки было страшно смотреть, они казались старушечьими или руками трупа — в тюрьме болезненно-бледные, страшно исхудавшие, теперь, когда она снова начала пить, они побагровели. И так болели, что она расплакалась, не смогла сама взять молоко, и маме пришлось подносить чашку к ее губам. Нестерпимо болело все тело.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

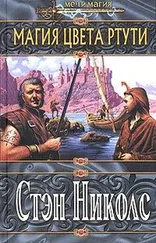
![Уоллес Николс - Ближе к воде [Удивительные факты о том, как вода может изменить вашу жизнь]](/books/25971/uolles-nikols-blizhe-k-vode-udivitelnye-fakty-o-t-thumb.webp)