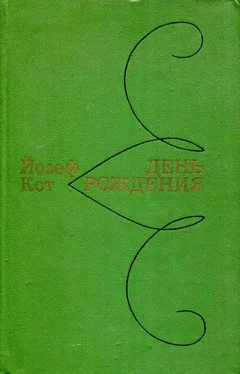— Я могу отвезти вас в поликлинику. Я работаю там техником-смотрителем.
— Нет, не надо. Не беспокойтесь, со мной правда все в порядке.
Юноша пошел прочь. Томаш долго смотрел ему вслед, будто провожая, будто хотел навсегда сохранить в своей памяти его красную куртку и вязаную шапочку.
Он взглянул на часы. Время еще есть. Торопиться не надо, он и сегодня не опоздает. Сегодня это заметил бы каждый. «Полюбуйтесь, — сказал бы его заместитель Штёвик, — он уже начал праздновать. И без нас!»
Институт находился в тихом переулке по соседству с детским садом, откуда каждое утро в одиннадцать часов доносилось пение детей. «Зайчик-ушастик, смотри не зевай!» Он привык к этой песенке, которая повторялась ежедневно с завидной точностью в любое время года и предшествовала топоту и визгу, свидетельствовавшим о том, что маленьких хористов распустили. О воспитательнице у Томаша сначала сложилось самое неблагоприятное мнение. Он представлял ее себе приземистой старушкой, у которой за долгие годы жизни духовный кругозор сузился до кругозора детей дошкольного возраста. Представлял себе, как она шепелявым заискивающим голосом улещивает самого отъявленного шалуна, которому только что влепила затрещину, чтобы он не донес на нее родителям.
«Зайчик-ушастик скакал без забот, скакал без забот. Охотник подкрался, пиф-паф из кустов, пиф-паф из кустов». Слово «пиф-паф» всегда сопровождалось хлопком в ладоши, и он каждый раз чувствовал себя подстреленным и пригибался к столу, словно из-за высокого филодендрона, украшавшего его кабинет, в него целился безжалостный охотник, не спуская его с мушки.
Он очень удивился, увидев однажды, как дети из садика идут на прогулку: воспитательница оказалась совсем непохожей на ту, что он себе рисовал. Она была молода, моложе двадцати пяти, с длинными черными волосами, собранными в «хвост», и в облегающих джинсах. Как будто в стайку малышей затесалась девушка с вечернего бульвара. Но голос у нее был пронзительный, резкий, когда она одергивала свою команду. Он вызвал в нем уважение, этот голос, даже дрожь, и он невольно занял образцовую позицию: выпрямился на стуле и выпятил грудь, как это рекомендуется в медицинских пособиях, а сообразив, что сидит, закинув ногу на ногу, покорно их развел и поставил на пол, как будто она каждую минуту могла войти и проверить. Под конец он пришел к выводу, что воспитательница ему небезразлична; он видел ее перед собой — ее узкие бедра в голубых джинсах, сидящих как влитые, торчащие грудки под желтой маечкой и длинные черные волосы. Когда детский гомон возвещал выход группы на прогулку, он всегда подходил к окну и, стоя за занавеской, смотрел на процессию. Ждал, когда воспитательница глянет в сторону его окна, чтобы, оставаясь невидимым, кивнуть ей. Вера тоже была воспитательницей, но Вера никогда не носила джинсов и никогда не пела ему песенок о зайчике-ушастике. Он готов был побиться об заклад, что воспитательница из детского садика не носит бюстгальтера; ему часто снилось, что она стоит перед ним, подняв руки, а он снимает с нее майку, из которой ему в ладони падают два упругих мячика, и только он, больше никто, может ими играть. Он был жонглером, потом фокусником, плясал на проволоке и качался на воздушной трапеции, но в ту минуту, когда музыка стихла и послышалась дробь барабанов, возвещающая гвоздь программы, он почувствовал нацеленное на себя дуло ружья и очнулся. Охотник не знал жалости, не знал пощады, слепо выполнял свою роль. «Пиф-паф из кустов».
В детском садике уже светились окна, там начинали в шесть, институт же лежал в сумраке, лишь кое-где горел огонь. Когда он поступил сюда работать, институту принадлежал только первый этаж старого жилого дома. Но, оглядевшись в должности директора, он стал развивать теорию об «оптимализации рабочей среды», и ему удалось убедить Национальный комитет, чтобы второй этаж тоже был передан институту. Таким образом, институту стала принадлежать ровно половина старого дома, и Томаш не забывал при каждом удобном случае напомнить, что, не будь его знакомств, они бы по сей день торчали по пять человек в одной комнате. Сам он остался в своем прежнем кабинете на первом этаже — не только потому, что привык к нему, но и потому, что из его окна хорошо просматривался тротуар около детского садика.
Войдя в кабинет, он нашел в вазе на столе свежий букет. Он ожидал этой увертюры, она повторялась каждый год в день его рождения, и молча сосчитал количество гвоздик. Их было десять. Две за каждые десять лет. Или одна за пять. Что такое год в человеческой жизни, если он стоит одну пятую гвоздики? Годы бегут, прибывают, и вдруг оказывается, что ты все еще где-то в начале, что ты не прошел и пятой части пути, хотя положено тебе быть уже во второй половине.
Читать дальше