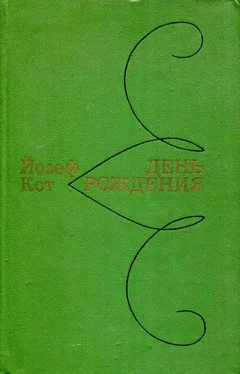«Мой отец был партизаном, — сказал Ондрей. — Ему удалось пустить под откос поезд с боеприпасами».
«Сейчас не надо пускать поезда под откос, — сказал Томаш, — Герои никому не нужны».
Они пришли в штаб бригады, и там их назначили командирами взводов. В первый же день, разместившись в деревянных бараках, в которых аромат свежей смолы смешивался с нафталинным духом, исходившим от старых солдатских одеял, они условились, что их взводы будут соревноваться.
Томаш построил свой взвод. В большинстве это были школьники, мальчики и девочки, подростки, и командир вызывал у них трепет. С минуту он испытывал их проницательным взглядом из-под густых бровей, потом сказал:
«Вам ясно, что план нужно перевыполнить?»
«Ясно», — отвечали они хором.
«Из этого вытекает, — продолжал он сурово, — что для вас не существует понятия «рабочее время», есть только норма. Ясно?»
«Ясно», — отвечали они хором.
Норма была жесткая, руки нежные, и работа по рытью котлована, выпавшая на долю взвода Томаша, затягивалась каждый день допоздна. Его вызвали в штаб.
«Не дури, Томаш, ведь они еще дети», — выговаривал ему начальник штаба.
«Мы соревнуемся, — процедил сквозь зубы Томаш. — И они согласились».
«Смысл соревнования не в том, чтобы ободрать ладони, — сказал начальник. — Чернок тоже соревнуется. И в четыре они кончают. Имей совесть, Томаш».
Томашу это не понравилось. Он пошел к Ондрею и попросил показать отчетные цифры. Те соответствовали норме.
«Это невозможно, — сказал Томаш. — Ты жульничаешь».
«Зачем мне жульничать? Но просто копать — мало. Надо при этом думать». — Ондрей постучал себя по лбу.
Томаша взорвало:
«Ты хочешь сказать, что я не думаю! Что я тупица».
«Этого я не говорил», — отрезал Ондрей.
Томаш схватил его за воротничок голубой рубашки.
«Ну ударь, — сказал Ондрей. — Ударь, если думаешь, что это тебе поможет».
«Не ударю, потому что ты калека. С калеками я не дерусь».
Ондрей бросился на Томаша:
«Я тебе покажу, я тебе покажу, кто калека».
Сбежался весь барак. Когда их наконец растащили, у обоих были разорваны рубашки, а лица в крови. На другой день заседал комсомольский суд, и оба были из бригады исключены.
«Ну что, получил, что хотел, — сказал Томашу Ондрей, когда они, собрав рюкзаки, ждали поезда на маленькой станции. — Теперь нас исключат».
Не исключили. Томаш вспомнил о Мартине. После той ночи в общежитии он его не видел, но знал, что Мартин уже не работает на заводе, а окончил какую-то школу и что-то делает в Союзе молодежи. Мартин принял его в большом кабинете. Он вырос и покрепчал, но за полированным столом выглядел неуклюже. Они встретились, как родные братья. Потом Томаш рассказал историю с бригадой. Мартин расхохотался.
«Ты всегда был фантазером, Томаш».
«Что с нами теперь будет?» — робко спросил Томаш, как будто Мартин был ему не двоюродный брат, а незнакомый судья, который должен вынести вердикт о его жизни или смерти.
«А что еще может быть? — сказал Мартин. — Вас отправили домой. Разве этого тебе мало?»
«Нам это запишут в характеристику?» — спросил Томаш напрямик.
«В характеристику? Не знаю, Томаш».
«Не сочиняй, Мартин, будто не знаешь. Человек на твоем месте должен о таких вещах знать. Или ты не хочешь знать?»
Мартин встал — в руке он держал линейку, которой похлопывал себя по ладони, — и нервно прошелся вдоль стола. Потом снова сел.
«Я в самом деле не знаю, что тебе напишут в характеристике. Знаешь, сколько народу у нас сейчас в бригадах? Тысячи и тысячи молодых людей. Если бы я читал все характеристики, мне бы никаких глаз не хватило. А я и так уже без очков не вижу».
Мартин достал из кармана очки в черной роговой оправе и аккуратно протер стекла. Потом надел их и стал совсем уж непохож на двоюродного брата, который когда-то в бомбоубежище разбил керосиновую лампу.
Мартин нам не поможет, думал Томаш. Сейчас в моде принципиальность, а Мартин всегда уважал принципы. В юности, когда еще была жива его мать, он был очень набожен и каждое воскресенье отправлялся в церковь, неся в руках толстый молитвенник. Томаш часто его задирал. И вот однажды в воскресное утро Мартин пришел к нему, бросил молитвенник на стол и начал вырывать из него лист за листом и делать из них кораблики. Когда перед ним набралась целая куча корабликов — десятка два, — он сказал:
«Это все очковтирательство. Больше я туда не пойду».
И рассказал Томашу, что он вызвался прислуживать во время мессы и обнаружил, что священник пьет обыкновенное вино, а после службы они с церковным служкой распивают и то, что осталось в золотом потире, и лица их краснеют.
Читать дальше