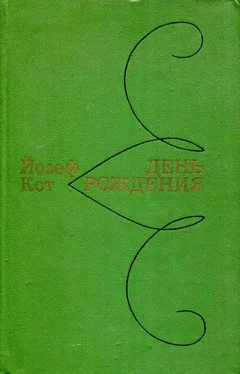Томаш подбивал Мартина пальнуть в одну из ламп.
«Зачем ты принес рогатку, если ни во что попасть не можешь?»
Мартин скалил сильно выступавшие вперед зубы.
«Погоди, вот выйдем наверх. Я подстрелю воробья».
«Да не попадешь ты».
«Ей-богу попаду, крыло подобью с первого раза».
Взрывы бомб как будто приближались. «Господи боже, — шептал в полутьме надтреснутый старческий голос — Сегодня в нас попадут. Сегодня в нас попадут».
Не попали. Когда надет кончился и народ, толкаясь, заспешил к выходу, Мартин все-таки решился и стрельнул в лампу. Стекло лопнуло, из лампы хлестнуло пламя. Возникла паника. Кто-то крикнул: «Пожа-а-ар!» Давка превратилась в свалку.
«Если не отдашь мне рогатку, я тебя выдам», — сказал Томаш.
Мартин, испуганный последствиями своего поступка, молча протянул ему рогатку.
«Я все равно хотел ее выбросить, — сказал он себе в утешение, — разве ты не видел, что она криво стреляет?»
Они вышли на улицу. Резкие солнечные лучи ослепили их. В воздухе пахло паленым. Отец Мартина стоял у ворот. Он сказал Томашу:
«Твоего отца взяли. Будешь жить у нас».
Позднее Томаш узнал, что его отец в почтовой сумке разносил какие-то листовки. Он понимал, что одному ему жить нельзя (мать его умерла еще до войны, во время родов), и потому переселился к Гальвам. Гальва имел лавку, которая находилась в угловом доме, и не один день Томаш и Мартин провели там среди мешков с мукой и сахаром. Они помогали взвешивать товар, укладывали пакеты в сумки покупателям, за что вознаграждались иной раз горстью карамелек.
Отец Томаша не вернулся. Война окончилась, и Томаш получил стипендию: он пошел учиться. Ему пришлось переехать в общежитие, ибо старый Гальва не мог ему простить, что он подался к коммунистам.
«Я знаю, вы хотите забрать мою лавку», — сказал он.
«И заберем, — сказал Томаш. — На что она вам? Вы лучше ее добровольно отдайте. Будете тогда в ней сами торговать, а государство еще вам все расходы оплатит».
«Неблагодарный ты, — рассердился на него Гальва. — Ишь чего захотели! Я столько лет надрывался, налаживал дело, а теперь вот так запросто, по доброй воле все отдать?»
«Не обязательно, — сказал Томаш. — Если не хотите, то и не надо. Оно все равно будет теперь общее».
«Так-так, — сказал Гальва. — Чтобы всякая шпана обзавелась имуществом и сидела на нем, как слепой куренок на куче зерна».
Мартин молчал. Он не вмешивался в их споры. Однако в лавке работать отказался. Нашел себе работу на заводе. Однажды вечером он пришел домой в рабочем комбинезоне с красной повязкой и винтовкой.
«Что случилось?» — осведомился Гальва.
«Мы делаем революцию, — отвечал Мартин. — Выгоняем паразитов».
«И меня хотите выгнать?» — осведомился Гальва.
«Не знаю, отец», — отвечал сын.
«Уходи, — сказал Гальва. — И больше не возвращайся. Мой порог ты больше не переступишь».
В тот вечер Мартин пришел к Томашу. Они проговорили до глубокой ночи.
«Знаешь, Томаш, — сказал Мартин, развалившись на застланной постели, — я что-то ничего не понимаю. Я хочу, чтобы мне жилось лучше. Чтобы не пришлось мне всю жизнь торговать червивой мукой и дрожать над каждой кроной. Но я же не виноват, что отец мой думает по-другому!»
Томаш стоял у окна и молчал. В общежитии все будто вымерло. Многие еще не вернулись после зимних каникул, других выгнали из дому бурные события [10] Речь идет о февральских событиях 1948 года в Чехословакии, в результате которых завершился процесс перерастания национально-демократической революции в социалистическую.
. Соседи Томаша демонстративно переселились в другие комнаты: «Мы не желаем спать в одном помещении с коммунистом».
Мартин закурил сигарету.
«Так скажи что-нибудь, Томаш. Я сделал глупость?»
«Нет», — сказал Томаш.
«Может, мне не надо было с ним так круто? Все-таки это мой отец».
«Тут я тебе не советчик, — сказал Томаш. — У моего отца не было лавки, у него была только почтовая сумка. И он бы сегодня не колебался».
«Может, пойти перед ним извиниться?» — Мартин поднялся с постели, подошел к потрескавшейся раковине, попил из горсти воды.
«Как хочешь, — сказал Томаш. — Когда-то ты умел выпутываться из любого положения. Ты был умней. Помнишь, когда мы с тобой говорили про корабль?»
«Боже мой, опять ты про корабль!»
Мартин снова сел на кровать, закрыл лицо ладонями.
«Тогда я тебе верил. Каждому твоему слову верил, Мартин».
За окном начиналась метель. Томаш смотрел на густые хлопья февральского снега, кружившиеся в конусе света, который отбрасывал уличный фонарь.
Читать дальше