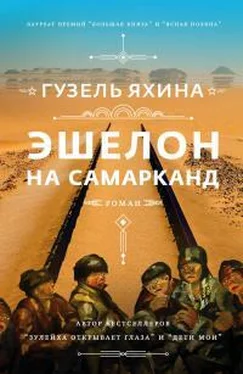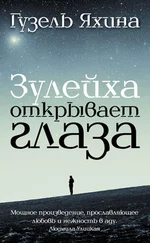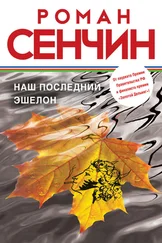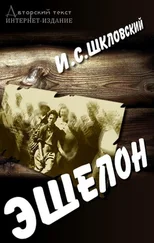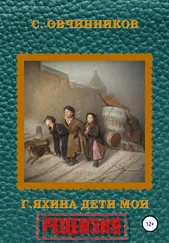Белая жалела, что на поясе ее болтался не револьвер, а лишь пяток исписанных карандашей: некоторым социальным работникам полагались не наставления, а немедленная пуля в живот. Эта ярость давно уже зрела в душе, но осознала ее Белая ближе к середине экспедиции. Случилось в Пятигорске. Она вошла в местный приют, по обыкновению не здороваясь с начальством, начала обход и нашла детей на кухне — ползающими по полу и хлебающими суп горстями из общего котла: заведующий распродал всю казенную мебель и посуду. Тут же села писать рапорт в ЧК — за неимением стола и стульев прямо на подоконнике. Заведующий, обильно истекая по́том от страха, покружился было вокруг, увещевая, а после умолк — и аккуратно выложил на тот же подоконник два золотых червонца. Убрать руку не успел — Белая оторвала карандаш от планшета, где строчила отчет, и всадила в распластанную пятерню. Свинячий визг раненого и брызги крови на окне — этого было мало, непростительно мало за воровство у детей.
С той поры ярости своей не скрывала, наоборот — давала волю: язык ее стал злее, голос — громче и раскатистей, кулак мог ударить по столу, а карандаш — больно ткнуть собеседника под ребро. Ярость эта праведная стала для Белой — второе крыло, наравне с любовью.
Дважды в нее стреляли: в Лорийских горах и в олеандровой роще под Адлером; оба раза мимо. Дважды же бросали камнем в купе, разбивая стекло. Один раз пытались похитить. Угрожали — много раз, и не сосчитать. Белая не боялась: истинная любовь не знает страха. Она без устали черкала в планшете, а затем часами телеграфировала и телефонировала — докладывала, бранясь до хрипоты и требуя денег, питания, учебных пособий, профессиональных кадров, открытия новых учреждений, укрупнения существующих. И ехала дальше, дальше, все дальше… Каждый день — новый фронт. Каждый день — новый бой. Она сражалась за всех сирот и беспризорников степей, гор и морских побережий, веруя в их спасение и изо всех сил приближая его. Это была — жизнь. Это было — счастье.
* * *
В декабре двадцать первого, едва вернувшись из южной командировки в Москву и отчитавшись перед ВЦИК, Белая получила новый приказ — отправиться в Поволжье. Цель экспедиции: “Доложить о степени голода в регионе и возможных мерах по спасению детей”. Картина происходящего в Советской Республике уже вырисовывалась из докладов с мест, но верилось в эти цифры с трудом: “Охвачены голодом 25 миллионов человек, треть из них — дети”. Главным очагом голодной эпидемии виделись берега Волги.
Белая знала о голоде не понаслышке. В восемнадцатом с питанием в столице стало худо, и сестры в Зачатьевском неделями варили лебедяную кашу: сначала с картофелем и овсом, а когда запасы картофеля иссякли — со щавелем и просяной мякиной. Тогда же столичные рынки наводнили спекулянты самого разного вида и калибра, обвешанные пыльными мешками, — в мешках была еда. Угрюмые, со впалыми щеками, ходили москвичи по базарным рядам и выменивали дорогие некогда вещи — часы, золото, столовые приборы — на пару фунтов муки или ведро моркови, приехавшие откуда-нибудь из-под Рязани или Владимира. А вместе с мешочниками объявился и всякий сброд: нищие, попрошайки, воры. Просили не денег — хлеба. И крали не деньги — хлеб. Еда стала дороже денег, еда сама стала деньгами.
Несытно было и на Кавказе. В недавней поездке Белая видела семьи, ужинавшие одной травой. Лепешки, в которых не было ни щепоти муки, — сплошное сено и рубленая ботва с овощами. Детей с мягкими костями — ногами-кренделями. Хутора и деревни, оставленные жителями, что ушли искать лучшей доли. Везде была жизнь — бесхлебная, тощая, впроголодь.
Предполагалось, что по Московско-Казанской железной дороге Белая проедет до Шихран и оттуда совершит несколько экспедиций в районы Чувашии, включая столичные Чебоксары. Далее проследует до Волжска, откуда изучит марийские глубинки. Затем двинется в Казань и проедет по Татарии, а в завершение маршрута спустится к Симбирску и Самаре (для полноты картины было бы полезно спуститься ниже — до Саратова или даже Астрахани, — но такое турне решено было отложить до лета, когда откроется навигация по Волге). Раз в три дня от комиссара ожидали телеграфных сообщений о ходе командировки, в конце каждой недели — сводный отчет по прямому проводу. Мандат на поездку выдали в секретариате ВЦИК — отпечатанный на трех листах плотной бумаги и снабженный такими подписями, что уже один их вид должен был распахивать все двери и открывать все пути. Несмотря на это, путешествие грозило растянуться на месяц-полтора: по слухам, железная дорога на востоке работала с перебоями, поезда двигались медленно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу