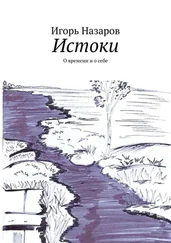Поэт Эшлиман проводил покупателя оскорбленным взором и обратился к продавцу, все еще держась фертом: «Вот что, любезный! Народ тёмен, высокого искусства не постигает. Продавайте — ко вы меня в придачу к книжкам, а я уж поясню читателю, что к чему».
Накинул продавец полтинник, пару книжек с Эшлиманом в придачу сбыл одиноким читательницам — а больше не берут. «Уценять надо, — говорит продавец. — Больно вид у вас, извиняюсь, нетоварный».
Обиделся поэт Эшлиман, ушел нетоварным фертом, а стихи его так и остались непонятыми. Их потом на экспертизу в институт Сербского передали и напечатали в сборнике «Творчество душевнобольных». А там — и на русский перевели, и на языки народов, тонущих в потоках сознания. Второй жизнью зажил поэт Эшлиман, с лекциями выступать начал. Но открывал украдкой первую свою непонятую книжку и плакал, жалел, что не он написал.
Зато, вдохновленный однажды недоступной прелестью Анны Керн, сочинил стихотворение «Я помню чудное мгновенье, Передо мной явилась ты…». Потом пошел в ванную, а там — на тебе — Анна Керн с Алексеем Вульфом в позах самых, что ни на есть, соблазнительных. «Я вам этого так не оставлю, все Пушкину расскажу!» — пригрозил Эшлиман. И рассказал. С тех пор стихотворение и стали приписывать Пушкину. А уязвлённый Эшлиман с поэзией покончил.
Но подлинную, хоть и тихую славу снискал Эшлиман в искусстве живописи, о чем свидетельствует посвященное его творчеству исследование, публикуемое нами на правах рукописи:
Александр Эшлиман. Монография
«Вклад Эшлимана в сокровищницу мировой живописи уникален тем, что его произведения никак невозможно увидеть. Тем более необходимым представляется рассказать о них широкой публике.
Известно, что к живописи Эшлиман обратился, разочаровавшись в литературных жанрах, что, согласно нашим сведениям, совпало с его желанием покинуть родину или, выражаясь сленгом тех лет, «свалить за кордон», дабы освоить иные веси и пространства.
В те годы, как, впрочем, и в последующие, разрешение на сваливание выдавал Отдел Вежливости и Радушия (ОВИР). Процесс этот был долог, хлопотен и даже небезопасен. Впечатление от общения с ОВИРом и сублимировались Эшлиманом в живописном полотне под названием «Паровоз» — шедевре, заложившем основы эстетики конструктивизма.
Учитывая габариты паровоза, Эшлиман использовал холст во всю длинную стену своей узкой комнаты, то есть 8,5 х 3,15 и писал его при естественном освещении с такой силой вдохновения, что в комнате внятно ощущался запах депо.
Окончив труд, Эшлиман стоял перед картиной, подавленный величием своего воплощенного замысла, как поденщик ненужный, плату приявший свою, а потом нашарил в кармане мелочь и направился в магазин, чтобы обмыть великое творение.
Вернувшись к мольберту, Эшлиман оцепенел. Холст был бел и пуст. Девственно бел и девственно пуст. И даже туп он был девственно. Паровоз напрочь исчез с холста. Этот шедевр, эта сволочь паровоз, укатил за границу, оставив Эшлимана дома с бутылкой бормотухи в кармане. Это было правдой и правду эту вскоре подтвердил ОВИР, вежливо и радушно отказавший Эшлиману в сваливании за кордон во след паровозу.
Увы! О величии эшлиманского паровоза, об убийственной достоверности его подвижных и неподвижных деталей, мы можем теперь судить лишь по разрозненным фрагментам картины, которые приверженцы конструктивизма давно растащили на гайки, трубы и поршни.
После трагического опыта с конструктивистским паровозом Эшлиман остыл к живописи, но друг и собутыльник — человек-эталон, разливавший водку в самом тёмном подьезде по булькам с точностью автомата, — просил написать с него портрет. Эшлиман долго отговаривал друга, указывая на таинственное исчезновение паровоза, но тот обиделся подобному сравнению, и Эшлиман сдался.
Во внезапном порыве вдохновения он изобразил друга и собутыльника в манере, получившей позже название «кубизма» и связанной с именем Пикассо. Деформировав черты собутыльничьего лица, отчасти поменяв их местами и придав им геометрическую видимость, Эшлиман добился в этом портрете необычайной выразительности.
Но увы, исчез с гениального холста и друг его, и собутыльник. И не только с холста он исчез, но и из жизни. Два года оплакивал его Эшлиман и пил, что придется, за его возвращение. А когда не оплакивал, то писал животных.
Первым анималистическим опытом Эшлимана было изображение коня, исполненного в той незамысловатой манере, что открыла путь наивному мастерству испанского средневековья и всем более поздним примитивистам. Стоит ли говорить, что незамысловатый конь мгновенно исчез с холста и затерялся среди тучных табунов Кочубея.
Читать дальше


![Андрей Мартьянов - Вестники времен - Вестники времен. Дороги старушки Европы. Рождение апокрифа [сборник litres]](/books/430811/andrej-martyanov-vestniki-vremen-vestniki-vremen-thumb.webp)