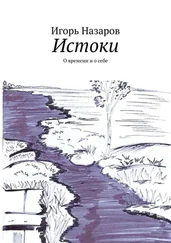Спровадив Эшлимана, Наполеон, чьи глаза засветились, как жестянки в лучах восходящего солнца, воскликнул:
— Гениально!
— Мы миллионеры! — коротко заметил Эйнштейн, разглаживая на колене мятую схему антигравитационного двигателя Эшлимана. — В Японии за такую идею 160 миллионов отвалят. Или 180. Адресок есть. Только на салфетках не принимают, чертеж нужен. Давай, Лобачевского покличем.
Лобачевский, проживавший в том дворе, отозвался быстро и схему рассмотрел. Но, в отличие от прочих Лобачевских, он не верил в пересечение параллельных прямых и прекрасно чертил, а, кроме того, оказался человеком совестливым и отказался делать чертеж похищенной идеи, о чем тут же оповестил автора, вернувшегося с бутыльцом.
— Не, мужики, — ответил Эшлиман, приняв положенный глоток и сотрясаясь сардоническим хохотом. — Не улетите вы никуда, я там самого главного зеркальца не нарисовал!
В восторге от своей эшлиманской загадочности, автор межпланетного двигателя пустился в пляс, но был остановлен милицейским нарядом, усмотревшим в его движениях некоторую неадекватность.
Неадекватный Эшлиман был доставлен в отделение, где ему настоятельно предложили описать веси, пространства и обстояния его бытия. Не впервые, впрочем, предлагалось подобное Эшлиману. Дело в том, что люди, знавшие о нем понаслышке, держали его за вечного жида, но при первом же взгляде держать переставали. «За державу, — говорили, — обидно», не уточняя, правда, за какую. Чтобы разрешить недоумение и кривотолки, было Эшлиману когда-то предложено рассказать о себе по радио. Эшлиман вместо этого захотел почему-то рассказать, что родину любят сокровенно, потому, что каждый не знает её по-своему, но передумал.
Посидел у микрофона, подышал, покашлял, потом говорит: «Не, я так не умею. Напишу лучше». Дали ему бумагу, ручку шариковую и оставили в размышлении. Забыли на время об Эшлимане, а, как хватились, часов шесть уж прошло. Прибежали — дым сигаретный, сквозь него Эшлиман над листом склоненный слегка просматривается, а на листе «Я родился…» написано. И зачеркнуто жирно.
Так и в отделении милиции не продвинулся Эшлиман дальше сакраментального и по размышлении зачеркнутого «Я родился…». Пришлось накатать за него автобиографию участковому милиционеру, большому знатоку жанра. Заручившись неадекватной подписью, участковый подшил сей апокриф к делу и спрятал его в железный сейф. А по делу тому определили Эшлиману 15 суток отдыха, укрепив его желание податься в иные веси.
Исчезновение Эшлимана и непересёкшегося Лобачевского не повлияло на намерение сотрапезников, отправить салфеточную схему по известному адреску.
— Может они не заметят, что зеркальца не хватает, — предположил Эйнштейн.
Но японцы заметили и ответили похитителям, что без зеркальца их идея гроша ломаного не стоит, но если удастся найти подходящее зеркальце и отыскать для него нужное место, от чего двигатель заработает, то пришлют миллионов 16 или даже 18.
С тех пор Наполеон с Эйнштейном спорят, не прерываясь, о том, сколько миллионов они получат, а японцы стоят в очереди к чертежу со своими зеркальцами.
Несмотря на то, что японцы — люди переимчивые — прекрасно знают, что от идей, набросанных на салфетках, добра ждать не приходится, каждый японец в глубине души надеется, что с его-то зеркальцем двигатель, наконец, зафурычит, и все они улетят отсюда куда подальше.
* * *
А ищущий себя Эшлиман, пережив полное фиаско в создании автобиографии, решил попробовать себя в жанре абсурдизма и, естественно, тут же, подобно коллегам, начал разбираться по частям, как пластилиновая кукла.
Решил для начала написать книгу «Ни дня без строчки». Сел за стол — и задумался: «Ни дня» или «Не дня»? Пошел соседа спросить. Тот как увидел Эшлимана, затрясся весь, посинел. «А-ааа! — кричит. — Опять это ты, Петраков»! Взял да запустил в Эшлимана топором — и отрубил ему руку.
Эшлиман руку свою забрал, обиделся и не стал писать книгу «Ни дня без строчки». «Пусть, — говорит, — Толстой пишет, раз такой грамотный».
Поэтому её Олеша и написал.
Эшлиман же руку свою на место приладил, да на том с прозой и покончил, поэзией занялся.
И вот, приходит этаким фертом в книжную лавку посмотреть, как первый его поэтический сборник раскупают. Трется у прилавка час, трется другой — никак его сборник не раскупают.
Продавец, заметив Эшлимана, говорит: «Непонятно пишете, молодой человек, вот и не берут стишки ваши». Но тут покупатель подходит, листает эшлиманскую книжку, носом вертит. «Абракадабра какая-то, — говорит. — И что за чушь теперь пишут!» «А это поток сознания, — поясняет продавец. — В большой нынче моде». «Это какого-то сумасшедшего сознания поток!» — отвечает покупатель и злобно швыряет сборник на прилавок.
Читать дальше


![Андрей Мартьянов - Вестники времен - Вестники времен. Дороги старушки Европы. Рождение апокрифа [сборник litres]](/books/430811/andrej-martyanov-vestniki-vremen-vestniki-vremen-thumb.webp)