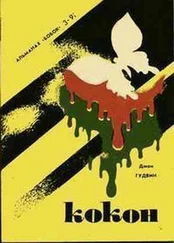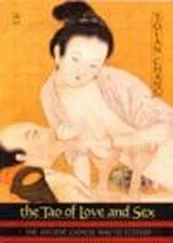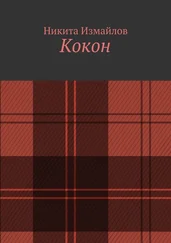Заколки-невидимки выскочили из ее волос и с тихим звоном упали на пол. Звук напугал старуху, она опустила голову, пытаясь отыскать заколки, а потом принялась яростно топтать их, будто давила невидимых насекомых. Потопав, замерла, резко вскинула голову, увидела меня и в ужасе выбежала из гостиной. Раздался грохот захлопнувшейся двери.
Много лет спустя Тан Хуэй не поверил, когда я рассказала ему эту историю, он уверял, что Ван Лухань не могла оставить этот сгусток в унитазе и я все придумала. Но если я его не видела, почему же так перепугалась и убежала справлять нужду на балкон? А если бы я не сбежала на балкон, как бы увидела за балконной дверью матушку Цинь? Эти воспоминания связаны друг с другом в одну цепочку. И еще: как тогда объяснить, что с тех пор я боюсь сливных отверстий в унитазах? Не могу смотреть туда даже при свете. Слива в раковине я тоже боюсь, поэтому никогда не наклоняюсь, чтобы умыться, и вечно мочу рукава.
Но Тан Хуэй сказал, что ложные воспоминания, пустив однажды корни, начинают переплетаться с воспоминаниями настоящими и точно так же могут послужить причиной появления самых разных привычек и внутренних запретов.
– В твоем подсознании с самого рождения живет необъяснимое чувство вины. – Встречаясь со мной, Тан Хуэй поднаторел в психоанализе. – Ты считаешь себя соучастницей ошибок, допущенных взрослыми, поэтому твои воспоминания постепенно искажаются, и ты убеждаешь себя, что не просто видела абортированный плод, а еще и расправилась с ним.
Чувство вины. Да, оно у меня есть. Но разве оно врожденное? Или я приобрела его, раз за разом погружаясь в воспоминания? Честно, не знаю. Но я действительно испытываю страстное желание встать в их ряд и разделить с ними вину. Наверное, моя собственная жизнь слишком пуста, потому я стараюсь пробиться в другой, не принадлежащий мне мир, чтобы наделить ее смыслом.
В тот день папа долго не возвращался. Перепуганная, я убежала в свою комнатку и легла на раскладушку в обнимку с Татой. Очень хотелось есть, раскладушка была холодная, а вместо подушки я положила пузатый плетеный баул, но мне все равно удалось уснуть. Сквозь сон я услышала, как кто-то поет. Подумала, что мне это снится, открыла глаза, но голос не исчез. Жалобная, печальная песня, сладкий, густой женский голос патокой лился в уши. Хотелось еще немного поспать под эту песню, но я уже окончательно проснулась.
“Небо усыпано звездами, месяц сияет, блестит…” В песне была только эта строчка, и она раз за разом повторялась, рождая смутную тревогу.
Я встала с раскладушки и после непродолжительной борьбы с собой набралась смелости, открыла дверь и вышла из комнаты. В гостиной Ван Лухань расчесывала волосы безумной старухе, которая меня напугала. Прямая как палка, старуха сидела на деревянной табуретке у окна, держа в ладони кучку черных невидимок. Старуха впилась глазами в эти невидимки, словно боялась, что их отнимут. И только тут я увидела, что ее губы шевелятся, – оказывается, вот кто пел. Я никогда бы не поверила, что такой нежный голос может выходить из сморщенных старых губ, если бы не увидела это собственными глазами.
Песня свободно лилась откуда-то из глубины старухиного тела, как будто там была заключена другая женщина, не старая и не сумасшедшая. Ван Лухань стояла за ее спиной, роговой гребень в форме полумесяца цветом напоминал прозрачный мед, и медовые солнечные лучи струились из окна, вплетаясь в сухие и жидкие седые волосы.
“Небо усыпано звездами, месяц сияет, блестит…” Не знаю, сколько раз повторила старуха эту строчку, пока не вспомнила следующие слова: “Митинг идет в бригаде, справедливости ищет народ. Проклятое старое общество, бедняки отомстят за слезы и кровь. На сердце нахлынули старые воспоминания, старые воспоминания. Не сдержать горьких слез, они бьются в груди…” [68] Строки из песни “Помни страдания от классового гнета”, популярной в годы “культурной революции”.
Меня бросило в дрожь – до чего же страшная песня. Хорошо, что старуха скоро опять забыла слова и стала тихо повторять первую строчку: “Небо усыпано звездами, месяц сияет, блестит…” Ван Лухань рассеянно водила гребнем по седым волосам.
Старуха была матерью Ван Лухань, носила фамилию Цинь. Много лет спустя Се Тяньчэн рассказал мне ее историю. Вроде бы Ван Лухань заметила у матери душевное расстройство, когда та перестала спать по ночам. Вечером еще не успевало стемнеть, а она садилась у окна и, не сводя глаз с неба, заводила эту песню.
Читать дальше
![Чжан Юэжань Кокон [litres] обложка книги](/books/385674/chzhan-yuezhan-kokon-litres-cover.webp)


![Пол Андерсон - Кокон [ Межавт. сборник]](/books/94579/pol-anderson-kokon-mezhavt-sbornik-thumb.webp)