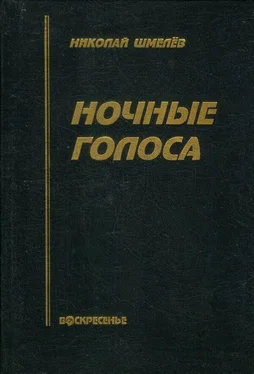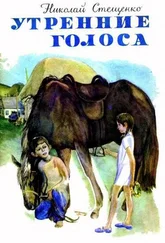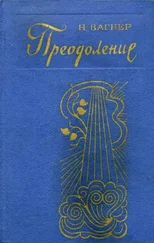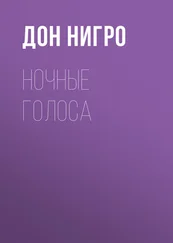А, во-вторых, совершенно прав был, по-моему, один из крупнейших деятелей (и крупнейших злодеев) нашего времени Александр Николаевич Поскребышев, каким-то чудом умудрившийся после смерти И. Сталина избежать пули в затылок. Когда его спрашивали, почему же он, неизменный первый помощник «вождя народов» в течение более двух десятков лет, теперь, когда все вокруг пишут мемуары — вон, и В. М. Молотов пишет, и Л. М. Каганович, и А. И. Микоян, и другие — не пишет их тоже, он неизменно отвечал:
— А зачем писать? В «Истории партии» все сказано.
Ничего не возразишь, мудрый был человек! Потому и похоронен был по-человечески, в своем генеральском звании, и семью не обидели, и особых проклятий в его адрес даже теперь не услышишь ни от кого…
Нижне-Кисельный переулок
Говорят, никуда не надо возвращаться. И правильно, наверное, говорят: ничего, кроме разочарования, человека обычно не ждет там, куда он вернулся… А хотя бы и в отчий дом! Все, все не так там, как было. И любая такая попытка вернуться в прошлое, за тем, что когда-то было твоей радостью, неминуемо обернется лишь новой печалью: то, что было, оно и было потому, что было, и теперь его нет, и не надо, не трепыхайся, не ищи, не зови — не будет его больше никогда.
Стоит в Москве на углу Рождественки и Нижне-Кисельного переулка большой серый дом. Это, вернее, когда-то он был большим. А сейчас он стал маленьким, выцветшим, облезлым, с обвалившимися по углам балконами, с грязноватыми окнами, со щербатыми ступеньками крыльца и покосившимися, рассохшимися дверьми в подъезд… И сам подъезд уже не тот — прежде всего запахи его не те, и лифт чужой — не решетка, как было, а две раздвижные панели, и свет на лестничной клетке иной — не прежний теплый, а мертвенно-бледный, и вместо старой, обитой клеенкой двери в твою когда-то квартиру — эдакое бронированное чудище, способное, видимо, выдержать что угодно, хоть гранатомет.
Позвонить? Сказать: «Здравствуйте! Я здесь когда-то жил…» Ну, и что? Чего ты этим добьешься? Хорошо, если просто пожмут плечами в недоумении, а то ведь могут и с лестницы спустить: спятил ты, дядя, что ли? Проваливай, пока цел! Нечего тут всяким полоумным таскаться, в чужие двери звонить, людей беспокоить… Тоже мне, видите ли, соскучился — домой пришел! Спустя без малого сорок лет… Кто будет слушать тебя? Кому расскажешь, что здесь, именно здесь — в этом доме, в этой квартире, забранной теперь бронированной дверью — прошли твои детство и юность?
А именно тут все оно и было — в квартире, в подъезде, во дворе, в переулке: и детские драки — двор на двор, но до «первой крови», и лапта, и прятки, и «казаки-разбойники», и «расшибалка» или «пристенок» на асфальте прямо у дома, и катанье зимой с горы вниз к Неглинной на санках, на коньках, прикрученных к валенкам, или — высший класс! — на «таратайках», на пузе, с воплем, задрав ноги кверху (две доски и три конька, один из них, передний — рулевой), и долгие, таинственные вечера на скамеечке или на корточках у сараев во дворе, и страшные сказки в темноте, и первый, непонятный еще, волнующий интерес к девочкам, а девочек к нам, и детская библиотека на углу Трубной, рядом с аптекой Г. Бриллианта (он же — Г. Сокольников), где можно было спокойно взять и прочитать что-то совсем уж запредельное тогда по своей недосягаемости — скажем, «Остров сокровищ» или «Капитан — сорви голова».
А то, набив карманы ружейными пистонами, пойдем подкладывать их на рельсы, под трамвай, там, где он по Рождественскому бульвару медленно взбирается вверх — то-то треску на всю округу, то-то испуг для прохожих и восторг для нас! А то, гурьбой, вскарабкаемся, бывало, на высокую каменную стену в Большом Кисельном переулке, за которой располагалась в те годы какая-то сверхсекретная школа КГБ, и называлось это у нас тогда просто: «Айда, ребята, шпионов дразнить…» А то вдруг в соседнем дворе объявится после очередной отсидки какой-нибудь известный в переулке вор из ребят постарше: и стоит он в кожанке и в «прохарях» в своей подворотне — «кепка набок и зуб золотой», и снисходительно поплевывает семечками себе под ноги, и угощает пацанву папиросами «Норд», а то и бери выше — «Беломор», а мы, разинув рты, глазеем на него в немом восхищении и слушаем — не наслушаемся, что он нам плетет о диковинной той жизни там, далеко, в бараках, в дремучих лесах, откуда он только что пришел…
И тополя того огромного, что рос у нас под окнами, давно уже нет — вон, даже пня от него не осталось, и только я один во всей Москве, наверное, и знаю, что он, столетний, стоял тут когда-то, доставая верхушкой своей до самых верхних этажей. И в соседнем доме номер 5, где при царе была гостиница, а потом обыкновенный жилой дом с длиннющими сквозными коридорами по всему его четырехугольному периметру, замкнутому вокруг внутреннего двора, и, конечно, лишь с одной гигантской общей кухней на каждом этаже — в доме теперь сплошные офисы, Бог его знает, каких фирм. И вдобавок еще на стене светящаяся реклама какой-то «Панды»! Да при чем тут «Панда», если в этом доме всегда жила чуть не половина моих одноклассников? А когда же это, интересно знать, в захламленном, застроенном сарайчиками и голубятнями проходном дворе, соединявшем тогда наш переулок со Звонарским (с выходом прямо к Сандунам), возник этот многоэтажный, блестящий стеклом и гладким красным кирпичом дом-щеголь, принадлежащий, как говорят, «Лукойлу»? И кто такой этот самый «Лукойл», чтобы ему стоять именно там, где чаще всего и разворачивались наши самые масштабные боевые действия — с деревянными мечами, щитами, копьями, дротиками — между союзными домами номер 4, 6 и 8 с одной стороны, и с такими же союзными 5 и 7 — с другой?
Читать дальше