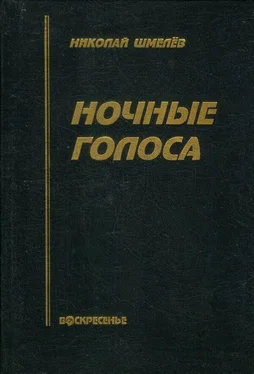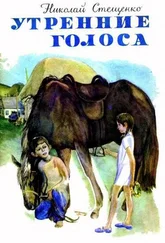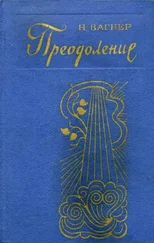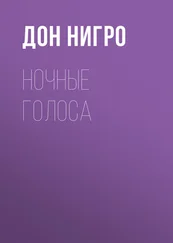На лужайке, на травке, перед ними лежало небольшое стадо, голов в пять-шесть. Но дело было даже не в стаде, а в том, что прямо над лежащими коровами возвышался могучий красавец-бык, и бык этот весьма неодобрительно смотрел на приближавшуюся к нему процессию. Мало того: он вдруг замычал, уставил рога свои вперед и двинулся прямо на секретаря ЦК! И по всему было видно: бык не шутит, и не понравился ему не кто другой, а именно шедший первым Борис Николаевич. А то, что это секретарь ЦК — откуда ему, быку, то было знать?
Положение было, прямо скажем, аховое. Идти на быка — как пить дать, на рога посадит, не постесняется. Назад повернуть, убежать от него — тоже не к лицу, позора потом не оберешься, шуточек разных, сплетен за спиной. Слыхали, как секретарь ЦК деру от быка дал? Только пятки засверкали! Да и возраст у секретаря ЦК уже был далеко не тот, чтобы от всяких там быков бегом бегать. Так ведь и инфаркт схватить недолго…
Одним словом, остановился Борис Николаевич, как вкопанный, и стоит в полнейшей растерянности, со своим этим полотенцем на плече… А бык и вправду не шутит. Еще громче заревел и, пригнув рога, попер прямо на него. Ужасная ситуация, безвыходная ситуация! Но…
Но в этот самый момент из-за спины окаменевшего Пономарева вдруг выдвинулась квадратная фигура Александра Ивановича Соболева. Молча отодвинув плечом секретаря ЦК в сторону, он левой рукой схватил быка за рог, круто пригнул ему лобастую голову книзу, а правой — как хватит несчастного быка кулачищем по уху! Бык лишь икнул, колени у него подломились, и он всею своею тушей тут же рухнул, как подкошенный, на землю — аккурат в самые ноги секретарю ЦК КПСС. Путь был свободен.
— Проходите, Борис Николаевич. Прошу…
Дальнейшая судьба быка мне неизвестна. Но именно после такого геройского поступка, говорили, и получил Александр Иваныч от ЦК КПСС в лице его секретаря по международным делам вечную индульгенцию на все свои прошлые, настоящие и будущие грехи.
Нет, «были люди в наше время!» А Владимир Вольфович Жириновский в своем этом местечковом картузике чего-то еще там бормочет о грядущих походах к Индийскому океану… Поздно! Опоздали, пропустили время. Вот кому надо было еще тогда поручать брать Босфор и Дарданеллы, а если уж так хотелось, то и Огненную Землю, и Магелланов пролив — Александру Ивановичу Соболеву. А его уже нет.
Как считать
На окраине Москвы, в Ясеневе, было и пока еще, к счастью, сохранилось одно воистину дивное место — санаторий Академии Наук «Узкое», бывшее имение кого-то из князей Трубецких. Просторный барский дом с разными пристройками, старинная гнутая мебель, картины, зеркала, люстры, прекрасная, десятилетиями скопленная библиотека, чистота, вышколенный бесшумный персонал в белых халатах… А кругом — столетние дубы, березовые аллеи, каскад все еще не обмелевших до конца прудов, старая полуразрушенная церковь, скамейки, песчаные дорожки, скворцы, ласточки, летом и ранней осенью — шебуршанье ежей в кучах опавшей листвы, зимой — заячьи следы на снегу… Даже и сейчас, когда громады многоэтажных домов вплотную придвинулись к границам этого парка, не надо здесь делать над собой ни малейшего усилия, чтобы забыть, что ты в Москве и что всего в километре отсюда все по-другому: гарь, дым, рев машин, визг тормозов, толпы мечущихся туда-сюда людей…
Многие десятилетия в «Узком» лечились, долечивались или просто отдыхали ученые со всего Советского Союза. И многие предпочитали провести отпуск именно здесь, в этой благословенной тишине и в своем, так сказать, кругу, а не ехать куда-то в более людные и популярные места — в Кисловодск там, или Сочи, или на Рижское взморье. Желающих всегда было хоть отбавляй, и, видимо, со временем сам собой установился определенный ценз: относительно легко (да и то в очередь) сюда могли приобрести путевку лишь кто-то в ранге профессора и выше.
Естественно, был это все преимущественно народ именитый, пожилой или даже очень пожилой. Когда я попал туда впервые летом 1972 года (тогда, помню, горело Подмосковье, и над Москвой — но не над «Узким»! — с утра до вечера висела дымная полумгла), самым старшим из обитателей санатория был девяносточетырехлетний, уже практически не выходивший из своей комнаты академик К. И. Скрябин. За ним шли восьмидесятилетние академики Н. И. Мусхелишвили и А. А. Микулин, за ними другие — чуть помоложе, а замыкали ряд совсем еще по меркам санатория молодые (шестидесятилетние) академики И. Н. Векуа и А. Г. Милейковский. Потом был обрыв — иных до меня возрастов не было, а самым последним в ряду был все-таки я в свои тридцать шесть лет. Однако меня, как я потом узнал, все, оказывается, считали «чьим-то внуком» и, конечно, никак не принимали — и справедливо — в расчет.
Читать дальше