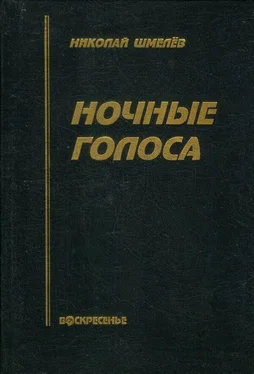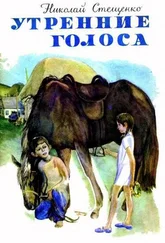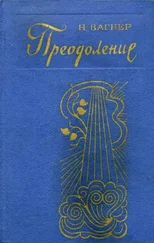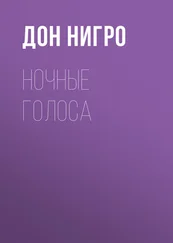Силища в нем была воистину неимоверная! Рассказывали, например, как, убеждая в Праге чилийских коммунистов-эмигрантов, что им нечего здесь зря время терять, что они немедленно должны создать на Огненной Земле плацдарм, а потом, форсировав Магелланов пролив, двинуться прямо на Сант-Яго, он, чтобы показать, как это делается (а разговор их происходил зимой, в январе, на госдаче на берегу какого-то озера) сиганул в чем мать родила в ледяную воду и на глазах у обалдевших своих собеседников отмахал, да еще саженками, от одного берега до другого и обратно. Говорили потом, что по расстоянию это было не меньше двух километров. Хотел даже, говорили, с автоматом это озеро переплыть, но автомата под рукой не нашлось.
А меня лично он потряс как-то тем, что однажды на Кавказе, осенью, когда местные хозяева-кабардинцы пригласили нас с ним вместе на шашлык на какую-то высоченную гору, он отказался ехать туда на машине, заявив: «Да я быстрее вас туда пешком взберусь!» И что бы вы думали? Пока мы крутили до того места на «козле» по горным серпантинам, он уже действительно был там. А взбираться надо было аж под самые снега, и лет ему, Александру Ивановичу, было тогда уже под шестьдесят. И спустился он потом с той горы тоже не на машине, а как и пришел — бегом по камням вниз.
Но… Русский был человек! И, к сожалению, пил, причем иногда запоем пил. А во хмелю был дерзостен и независим и никаких авторитетов над собой не признавал: начальство, не начальство — ему, когда накатывало на него такое, было абсолютно наплевать. До того наплевать, что, работая в Праге ответсекретарем журнала «Проблемы мира и социализма», он, к примеру, мог, находясь в соответствующем состоянии, не поехать на аэродром встречать свое прямое руководство — секретаря ЦК по международным делам Б. Н. Пономарева, когда тот прилетал туда по каким-нибудь делам. А для каждого, кто хоть немного помнит наши тогдашние порядки, думаю, и говорить не надо, что большего должностного преступления в те времена совершить было невозможно. Но удивительно — и это ему сходило с рук!
Помню, я сильно тогда недоумевал, откуда такая независимость, а главное — такая неуязвимость. Потом мне кто-то все же объяснил, откуда. А еще спустя год-два и сам Александр Иваныч (конечно, в несколько смягченной версии), мне подтвердил, что то событие, о котором пойдет дальше речь, не миф, а действительно, так сказать, имело место быть.
Работал он как-то вместе с командой других «писателей-невидимок» на бывшей даче Горького, в Успенском под Москвой, над важной бумагой, кажется, над докладом Генсека на очередном партсъезде или над чем-то в этом же роде. Процедура была известная: собирался на госдаче небольшой коллектив «высокобровых», пили-ели, думали — обсуждали, неделями писали каждый свой фрагмент, а потом сводную «болванку» представляли кому-то из руководства, кто отвечал за подготовку документа, а потом уже — в Секретариат ЦК или на Политбюро. Причем это не обязательно должен был быть какой-нибудь основополагающий доклад, могло быть и просто «приветствие ЦК КПСС конгрессу пчеловодов» — тогда к таким вещам относились в высшей степени серьезно и каждый раз весьма тщательно подбирали, кого включить в команду, а кто еще до такого дела не дорос.
Место это изумительной красоты, в сосновом бору, на крутом берегу Москвы-реки: великий пролетарский писатель понимал толк в таких вещах и знал, где ему жить. А летом — особенная благодать: тишина кругом, птицы щебечут, пчелы гудят, резедой пахнет — сиди себе на балконе в плетеном кресле, прихлебывая чай с лимоном, смотри на луга, на рощицы на той стороне реки и думай о несовершенстве жизни и о том, как человечеству вообще дальше жить.
Вот в один из таких блаженных июльских дней к команде, в которой работал Александр Иванович, и приехал, чтобы осведомиться, как идут дела, главный, так сказать, заказчик готовившегося документа — секретарь ЦК Борис Николаевич Пономарев. А день был сильно жаркий, и у секретаря ЦК возникло вполне естественное желание выкупаться перед тем, как засесть за обсуждение сделанного.
— Айда, ребята, сперва на реку. Сил никаких нет — такая жара…
Спускаются они, значит, по высокой деревянной лестнице к реке, к небольшому лужку под правым ее берегом — там обычно и купались все. Там и мостки были оборудованы для схода к воде. Идут чин-чином, как и полагается: впереди с полотенцем через плечо секретарь ЦК — маленький, сухонький, но вид всегда внушительный и гордый, за ним на шаг-два сзади помощник поважнее, за этим уже не так поважнее, а уж за ними, толпою, вся остальная пишущая братия. Идут весело, радуясь предстоящему удовольствию, но без суеты, без шума, как и положено в присутствии не кого-нибудь, а самого секретаря ЦК. Открыли калитку, вышли за забор, пошли гуськом по протоптанной тропочке… И вдруг — вот тебе на!
Читать дальше