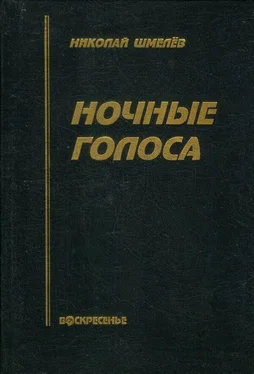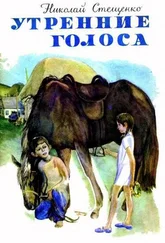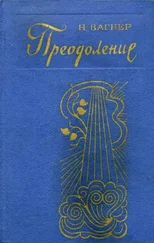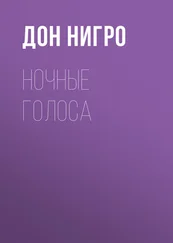В таких случаях Гурий буквально расцветал, надевал все свои ордена, наполнялся важностью и даже как будто немного подрастал в росте: так-то, в обычной жизни, человек он был маленький не только по положению, но и в самом буквальном смысле этого слова, т. е. от макушки до подошв.
Жил он тогда (и кончил свою жизнь) в полном одиночестве, в крохотной квартирке в кооперативном блочном доме на Севастопольском проспекте, где, между прочим, жили и мои отец и мать. И вот однажды в конце 70-х годов, поздним вечером, когда он, как обычно, сидел в тапочках перед телевизором, раздался звонок в дверь. Открываю, рассказывал он мне, а в дверях — человек в форме:
— Гурий Николаевич?
— Он самый.
— Проедемте с нами, Гурий Николаевич. Вас хочет видеть Леонид Ильич…
А на Кутузовском проспекте 26, в известном всем правительственном доме, его встречал уже сам хозяин (помнится, Москва еще тогда недоумевала: и куда это Брежнев так надолго исчез?). Встретил его в пижаме, в душегрейке и выглядел, рассказывал Гурий, не очень здорово: мешки под глазами, отекшее лицо, спотыкающаяся, шамкающая речь…
— Гурий, дорогой! Спасибо, что приехал… Тоска, Гурий! Такая тоска… Вот и маршал я, и Генеральный секретарь, и пять звезд на мне, а выпить коньяку, понимаешь, не с кем. Все одна сволочь вокруг… Спасибо, родной…
Назад домой, как рассказывал Гурий, он вернулся лишь через три дня… А дальше началась какая-то фантасмагория: вышла «Малая земля», тут же Гурия наградили орденом Ленина, стали не просто звать, а форменным образом тащить его на все публичные заседания и вечера, посвященные выходу этой книги, сажать в президиум, поить коньяком, снимать его в кино… Кончилось все тем, что где-то спьяну, спускаясь из президиума в зал, он упал и сломал ногу и долгое время потом ковылял на костылях. А дальше и вовсе покатилось все черт-те куда — конец его был, надо сказать, весьма печален.
Впрочем, и конец его патрона вряд ли был лучше. Если он, конечно, хоть что-то еще, приближаясь к тому концу, соображал.
Старая площадь
Есть (а вернее, была) у нас в России одна довольно странная порода людей: по виду — чаще всего зануды-интеллигенты, по натуре — бродяги, перекати-поле, не хуже геологов, а по характеру деятельности — нечто близкое к артистам эстрады или циркачам. А что? Те же афиши на тумбах, волнения, публика в зале, аплодисменты или, наоборот, шиканье и недовольный гул, а потом те же убогие номера в обшарпанных захолустных гостиницах, дымные ночные посиделки в своем кругу — под бутылку, под колбасу на газете… Откуда, брат? «Из Вологды в Керчь-с, Геннадий Демьяныч. А вы-с? — Из Керчи в Вологду»…
Порода эта — лекторы: от парткомов, от общества «Знание», от других каких организаций — один черт. И несло их из конца в конец России за какие-то жалкие гроши, и пытались они, каждый в силу своих способностей и в меру дозволенного сверху, сеять среди людей «разумное, доброе, вечное», и ничего-то путного высеять им так и не удалось.
К ним, людям этой породы, многие годы принадлежал и я. От Бреста до Анадыря, от Норильска до Термеза — везде побывал. И сейчас, оглядываясь назад, ничуть не жалею о том: и не потому не жалею, что везде побывал, а потому, что иначе мне, думаю, никак бы не поверить, никак бы не убедиться в том, что везде хорошо, где нас нет, и что человек в каком-нибудь тихом захудалом Сольвычегодске, или на гремящем славой по всей стране Запсибе, или в почти европейской Риге — он везде един. И везде жизнь человеческая, как говорили еще древние, есть одна лишь суета да маета.
К тридцати годам у меня в этом деле уже сложилась определенная репутация, так что не было удивительно, что меня в конце концов пригласили в ЦК КПСС, в лекторскую группу. Конечно же, я принял это приглашение. Преимущественный мотив был — любопытство: парадную, так сказать, сторону нашей власти я уже знал достаточно хорошо, а какова она, интересно, изнутри, в самой ее что ни на есть кухне?
На всю жизнь запомнил я свой первый день на Старой площади, в высоком сером здании на углу Ильинки.
Девять утра. В большой светлой комнате я один: коллеги мои, Б.В. и Л.В., еще не пришли. Я сижу, смотрю на телефон перед собой, на отрывной календарь, на ровную поверхность моего стола, на котором пока еще нет ни одной бумажки, смотрю в окно — из него видны Политехнический музей, памятник героям Плевны, бульвар, сбегающий вниз, к Зарядью.
Вдруг дверь в кабинет тихонько приоткрывается, и в нее просовывается высохшая голова какого-то незнакомого мне старика. Я перехватываю его взгляд: он смотрит не на меня, а на столик рядом со мной, на котором стоит сифон с газированной водой. Потом я узнал, что это секретарь-делопроизводитель Отдела, служивший в ЦК, говорят, еще при Сталине. Каждое утро он обычно начинал с такого вот обхода по кабинетам: приоткроет дверь и смотрит, всегда молча, не на людей, а на сифоны с водой. Если сифон с самого утра уже заметно пустой — ясно и без слов, как ты, хозяин кабинета, провел вчерашний день. Должность ли его того требовала или то был чистый энтузиазм — не знаю до сих пор.
Читать дальше