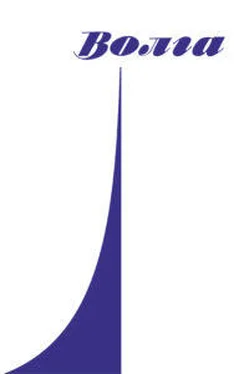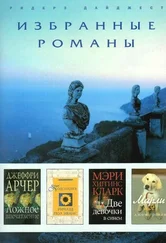Потом как-то все наладилось, и я привык — сам себе удивлялся, например, девушке своей не сказал ни слова, она и не догадывалась, по-моему, какие меня одолевали страсти… А еще потом неугомонный Келли снова затащил меня в «Апельсин» — показать, в какую, по его словам, фейри влюбился Лус. Наверное, бедняге очень хотелось в это поверить — что Лус пусть и не такой уж, как он сам, но все же не верный настолько… Женщина была, правду сказать, очень красивая, может быть, тоже с ирландской кровью — рыжеволосая, отчего Келли ее феей и назвал… Но я разглядел, как она на него смотрела — да так же, как и я сам. Как Келли. А Лус был спокоен, и чуточку лишь печалился, глядя на золотые волосы… Я хотел было высказать Келли все, что я насчет этого думаю, но только взглянул на него — увидел настоящее горе, какого никакими словами не отрезвишь и не разведешь, вот и промолчал. Жизнь короткая…
Я тогда и не подозревал, насколько.
…А еще ты читал много, иногда даже зла не хватало. Вот, скажем, поехали мы куда глаза глядят, к океану — вокруг, наверное, на километры ни одной живой души, ну, может, старушка какая-нибудь в холмах на огороде ковыряется, — а ты в книжку уткнулся. Лето, океан, черешня… Я косточкой в тебя стрельнул, а ты только взглянул мельком и опять в книжку… Тут меня прямо взняло: что там, говорю, у тебя такого интересного, я разве не лучше какой-то книги? Помнишь, что ты мне сказал? Что каждый человек на книгу похож. Что человека тоже можно читать. Я стал тебя подзуживать — мол, ну так вот я, весь тут, и даже без обложки, может, почитаешь? И ты ведь вычитал во мне кое-что. Мы вроде и шутили оба, но я видел, что для тебя это почему-то важно. Вся эта дурацкая история, в которую я в Байресе влип, когда певицу нашу, Лусию, из комнаты вытолкал — а там военных шестеро. Не понравились они мне. Глаза такие — пустые, стеклянные. Не знаю, наглотались они чего, обкурились, или, может, ширнулись какой-нибудь хреновиной… А им мое самоуправство не понравилось. Могло и хуже обойтись — Хорхе, гитариста, они вообще просто из окна выбросили, насмерть разбился. А мне что, меня они только пугали, играли на мне в «крестики-нолики» — как пацаны, как дикари, — даже и резать толком не резали, только поцарапали раскладными своими ножичками да ноликов окурками натыкали. А ты остроглазый — как раз эти следы и увидел. И знаешь, что странно? Что тебя это так… расстроило. Мне-то ничего, а вот тебя я таким еще ни разу не видел. Как будто тебя это волновало сильнее, чем даже меня. Ты разозлился, потому что какие-то неведомые уроды издевались надо мной. Никому до этого сроду дела не было, даже и мне самому — ну жив, и ладно, мог бы и погибнуть, ну, осторожнее стал, конечно, да и из Байреса, в общем-то, потому и уехал, тем более что одному их тех военных пару дней спустя в доках на голову кое-что свалилось, кирпич ведь не спрашивает, ты мастер боевых искусств или нет… Я как будто забыл — ну, не вспоминал, это уж всяко. Но тебе было не все равно. «Такое насилие — это ужасно». Ну, ужасно, и что? Было и прошло, ну, осталась парочка шрамов… Мне до того даже в голову не приходило, что это было что-то большее, чем просто неважное приключение… И ты, кажется, сильно этому удивился. Я тогда очень ясно понял, насколько ты другой. Не такой, как все. И как мало у нас общего. До мурашек проняло — так вдруг внезапно… Но я тогда все сумел как-то в шутку обратить. Сказал, что ты тоже на книгу похож. Догадаешься, говорю, на какую? На Библию. Ты удивился. А я ведь не так уж и шутил. Ты и вправду был похож на Библию, это книга неласковая, немилая — я же ее читал, в школе ею голову морочили больше чем учебой, да и потом, бывало, сидишь где-нибудь в каталажке — делать нечего, а Библия всегда есть. Не знаю, как там тебе в твоей вере, а для меня это книга огня. Суровая, не терпящая греха, людей не терпящая, я так и сказал, что ты, наверное, жег бы грешных… нет, не грешных — неправедных, если бы была твоя воля. Сказал, что вижу в тебе этот огонь, что ты не только Подсолнух, но и сам светишь. И я уже не шутил. Такой ты был, любимый мой, грозный, как войско иудейское, как Солнце ясный и такой же жгучий. Но это теперь — только воспоминание, только память. Меньше, чем слово.
— Ну что, Ката, как день? — Симон задержался у моего стола, улыбнулся. — Что у тебя? Можно посмотреть?
— Да, конечно. Это арпильеры, помнишь, я тебе говорила? Коврики такие джутовые, лоскутное шитье…
Читать дальше