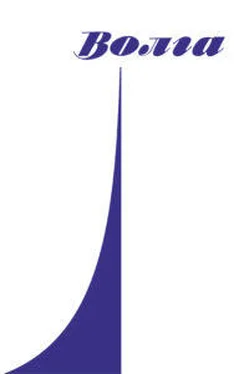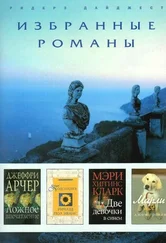— Нет, — я не стала уточнять. — Я приехала со здешним журналистом, он там… и никак не пойму… что это?
— Это наши товарищи, — сказала она. — Рассказывают американцам, тем двум, что с ними делали в ДОПС.
— В ДОПС?
— Ну да. В службе безопасности, в полиции… Это « пау де арара », «попугаячий насест»… там рано или поздно кровь приливает к голове, человек теряет сознание, и очень больно…
— Вам… с вами тоже так?
— Ой, нет, — сказала она и улыбнулась. — Нет. Для этого я никак не годилась. Меня подстрелили во время облавы. Пойдемте. Посидим вон там в тени, а то вы и правда бледная очень…
Пока мы шли в тень, она сказала, что ее зовут Питанга, что отец у нее американец. Что она жила в Нью-Йорке, училась там в католической школе, а потом отец умер, и они с матерью вернулись в Рио… А там уже — «так получилось», — сказала она и развела руками, и я увидела, что на правой руке у нее нет большого пальца. Мы присели под деревом, Питанга рассказывала про университет, про то, как пришлось жить в подполье, потому что среди студентов было очень много арестов. «Да разве только студентов… Они там всех хватают, понимаете? Вон тот парень, видите, такой, в сильных очках — это брат Тито, его прямо из монастыря забрали, очень мучили… А вон тот — он адвокат. Его тоже подвешивали… Тут все разные очень — студенты, врачи, рабочие, священники. У нас там страна всеобщего равенства теперь… всех ловят, всех пытают…» Я знала, что такое «подполье», и когда ловят всех подряд, это было у нас при немцах, — слышала от матери, я сама была слишком маленькая, чтобы помнить, а теперь вот они, подпольщики… Между тем того парня уже развязали, и теперь корреспонденты снимали его со спины, а другие мужчины показывали, как тушили сигареты о живого человека.
— У меня тоже есть такие следы, — сказала сидевшая рядом женщина с длинными волосами — она была красивая и мрачная, недоброе лицо, дерзкая усмешка. — А у Питанги шрамы от пуль. Девочка, покажи леди … пусть они знают.
Питанга слегка улыбнулась и подняла футболку. Живот у нее был исполосован грубыми рубцами от швов.
— Две пули, — сказала она, — в печень, в легкие. Рука — это тоже тогда.
— О Господи.
Я отвела глаза от Питангиного живота. К нам, оказывается, подошел оператор — это у него вырвалось «О Господи» — и парень с микрофоном, и с ними был, наконец-то, Симон.
— Добрый день всем. Ката, пойдем, не будем им мешать.
— Да, Пойдем… Конечно… Прощайте… Спасибо…
Симон крепко взял меня за руку. Где он был десять минут назад? И тут вдруг еще один бородач шагнул нам навстречу.
— Франко… — и он, кажется, хотел не то пожать руку Симону, не то обнять его. — Ты…
— Вы ошиблись.
— Извините, — пробормотал бородач. — Извините… обознался…
Все тем же быстрым шагом Симон увлекал меня к выходу из парка.
— Франко?
— Обознался человек, бывает.
— С тобой-то?
— Как раз со мной и обознался. Блондинов в Латинской Америке не так много, это верно, зато все они слегка… как бы это сказать… на одно лицо. Ты как, девочка?
Девочка. «Девочка, покажи леди …»
— Не очень, если честно. Скажи… зачем ты меня сюда привез?
Симон остановился у водительской дверцы «Мустанга».
— Ката, — сказал он очень серьезно. — Ты сама попросила взять тебя, если помнишь. И сама согласилась пойти посмотреть. Тебе очень плохо? Чем тебе помочь?
— Я не знаю. Подожди. Я сама не пойму… В «Апельсин» я сейчас точно не поеду, извини…
— Отвезти тебя домой?
— Нет.
— Тогда поедем ко мне.
Мотор заурчал, воздух тронул лицо. Хотелось закрыть глаза. Но я знала, что если я это сделаю, то буду видеть подвешенного, спину в рубцах от ожогов, девичью ладонь без пальца, шрамы на животе. В школе я бегала кроссы, и сейчас ощущение было такое же — сосущая пустота под ложечкой, слабость в ногах. В столице Симон снимал домик в тихом пригороде, и это было такое облегчение — не придется проходить мимо консьержа, не дай Бог, с кем-то ехать в лифте… Он помог мне выйти и все время, даже открывая дверь, держал меня за руку — пока не усадил на диван в гостиной и не пошел в кухню за стаканами.
— У меня ром… и виски еще есть немного. Что будешь?
— А, все равно. Ром так ром.
Я выпила полстакана, обожглась, захрипела.
— Ты как?
— А ты как думаешь?
— Я же не знаю, что это для тебя значит. И спрашиваю, потому что хочу знать.
— Все-то ты хочешь знать! Зачем тебе это? И… беженцы эти? И что со мной теперь? Зачем тебе это, Симон?
Читать дальше