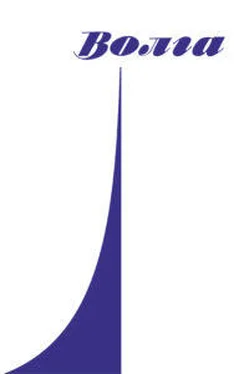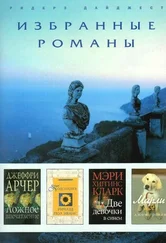— Я ведь журналист, — сказал он. — Я интересуюсь тем, что происходит в этой стране.
— А я интересуюсь ковриками…
— Коврики — это очень важно. Поверь мне. Все важно, Ката — коврики, мыльные оперы, журналы для девочек. Все, что облегчает жизнь. Что делает ее выносимой.
— Потому что невыносимой ее сделать очень просто, да?
— Да.
У меня к горлу подступали слезы. Коврики… где коврики — а где это все, о Господи… как от этого ковриками защититься?
— Я думала, что… хоть немного спасусь от этого… а тут…
— От этого — от чего?
— От этого… от произвола. От насилия, когда оно везде…
Он коротко и невесело рассмеялся.
— В Южной-то Америке?
— Не где-нибудь ведь в Южной Америке. Не в Парагвае каком-нибудь… или в Гватемале… Это мирная страна, все об этом знают. Здесь все-таки демократия, гражданские у власти… а теперь понятно, что и здесь может быть такое…
— Да. Тут многие мечтают, чтобы военные пришли…
— Конечно. Потому что коммунисты, будет революция, как на Кубе, придут русские. О Господи, Симон, ну вот стоило сбежать аж в Южную Америку, чтобы снова русские, а?
— Ты их уже видела? Здесь? Русских?
— Нет, конечно… Нет. Но я тебе честно скажу — я… боюсь. Я видела, как они приходят — как к себе домой, Симон, как будто им все можно. А мы никто… и звать нас никак…
— И все-таки именно русских на танках тут нет.
— Но говорят, что со дня на день будут… Что все к тому идет…
— Ты же сама видела — здесь, если что, прекрасно и без русских справятся.
— И ты… хотел, чтобы я это… вот так знала? Усвоила? С какой стороны ждать беды?
— Ката, — сказал он тихо и жестко, — Катерина, не дай Бог тебе… узнать это так, как эти люди узнали.
Я поняла, что сейчас разрыдаюсь. Было стыдно, страшно и вполне ясно — ни от чего я не спаслась и не спасусь. Не те, так эти. Не те, так эти, и разницы никакой. Я сложилась пополам на стуле, зачем-то старалась хотя бы спрятать лицо, чтобы он не видел… но все уже было бесполезно.
Не знаю, сколько времени я выла и скулила, как щенок… Опомнилась и поняла, что все это время Симон обнимал меня — держал, не давал упасть, дышал вместе со мной. Я упиралась лицом в его согнутую руку, и рукав был весь мокрый. Я тихонько завозилась, и он тут же мягко меня отпустил.
— Я пойду… умоюсь…
— Иди. Останешься здесь, ладно? Тебе сейчас нужно поспать. Завтра будет легче. Я тебе на диване постелю и буду рядом. Если что — зови.
Я не позвала. Я умылась, легла и лежала тихо — в мутном отупении. Помню, что я даже злилась на него, как будто это он был виноват во всем — в русских танках, в бразильском ужасе, в том, что не хотел от меня это скрыть, в том, что напомнил. Я была не слепая, я чувствовала, что надвигается что-то тяжкое, но Боже мой, как же не хотелось замечать это, как хотелось просто жить, радоваться, любить…
Любить!
Сквозь полуприкрытые ресницы я видела, как Симон устроился на широком подоконнике и закурил — безответная моя любовь, мой небезупречный рыцарь. До сих пор при мне он курил лишь однажды; предметом разговора тогда был Хайме… Только этого еще недоставало… Ревность, боль и страх — не самое лучшее сочетание… я снова всхлипнула. Симон оглянулся, но я уже опять лежала тихонько, и даже глаза прикрыла поплотнее. Я слышала, как он поднялся с подоконника, сделал несколько шагов, закряхтели доски пола, снова тишина… Прошло несколько минут, и я опять приоткрыла глаза. Симон сидел на полу в простенке между окном и дверями, вытянув одну ногу и подогнув другую, с недокуренной сигаретой в руке. На меня уже наваливался тяжелый сон от выпитого и выплаканного, но если бы ему нужна была помощь, я бы очнулась, конечно.
Но помощь ему была не нужна. Он сидел, глядя поверх меня куда-то очень далеко… очень — и лицо у него было на редкость суровое и мрачное.
День рождения у меня в этом году так себе вышел. Он нынче на государственный праздник приходится, только мне как-то и праздновать особо нечего. Работа есть — а отчего бы ей не быть, у нас же теперь жизнь веселее с каждым днем… А что внутри тесно и снаружи страшновато, и то одного, смотришь, нет человека — как в воду канул, то другого, и все помалкивают… ну что. И не к такому привыкаешь, говорят.
Так и живем.
Но все-таки подарок я получил — письмо. Толстое. С фотографиями. Это Сэм Халин меня вспомнил, друг детства. Сэм в торговый флот подался, так что весточки от него бывают не часто, но всегда с подробностями. Вот и сейчас расписал, как протекает его новая рекламная кругосветка (да, помню, помню, что-то такое читал), а вот и снимки… Ну, это Сэм и его девушка из Глазго… Сэм со всей таможней Порт-о-Пренса, Сэм с перевязанной рукой (вскрывал кокосовый орех ножовкой!) — и громилы из береговой охраны Сан-Томе… Сэм под кружевными эвкалиптами, в обнимку с каким-то тощим парнем, черные очки сдвинуты на лоб…
Читать дальше