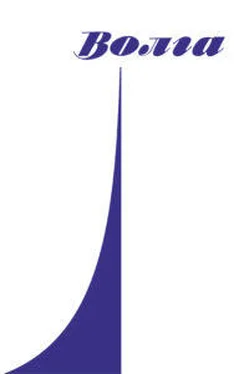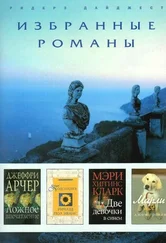Почему мне так больно, Симон? Ну не молчи же, мертвая моя звезда, призрак мой, горе мое — не достать, не дотянуться, Подсолнух мой… Где те, кого я любил? Где, мать их, те, кто меня любил?
Кто здесь?
От ветра (а может, от боли, которая понемногу росла в нем и теперь словно когти выпустила) у Келли слезились глаза, и белый свет немного потускнел, что ли, — но он и вправду будто видел их: Пат с девочками, Марка, доброго мастера Микаленича, он даже подумал, что видит его самого, белокурую фигуру, улыбку… Но все они отворачивались и уходили прочь, таяли, а вместо них из мерцающего, как в телевизоре, серого света вышли шестеро.
Убийцы.
Он узнал их — по нестерпимому блеску на раскладных лезвиях, по красным огонькам окурков в углах одинаковых ртов, по стеклянным, как морская вода, совершенно пустым глазам.
Нет!
Нет.
Келли тряхнул головой и невольно охнул — это тоже было больно. Морок, правда, немного развеялся, и он увидел, что вокруг камня прибывает вода. Начался прилив! Он выругался, потому что застрять здесь, — нет, сидеть тут чучелом как дурак, и чтобы рыбаки потом еще какие-нибудь стали спасать, отпуская соленые шуточки, — после этого уж и вовсе житья не будет…
Спрыгнул в воду — ее оказалось немного, дюймов пять, но она сразу полилась в туфли и была просто ледяная. Дыхание перехватило. Злость, гнев, страх.
Боль, тоска, отчаяние.
Но он знал, что должен идти, двигаться к твердой земле, потому что те… те догоняли. Он очень спешил. Он сделал несколько шагов, но вода тащила за ноги — такая холодная, что казалось, будто она поднялась до груди и давит, давит страшно. Келли споткнулся, зашатался и упал. Он еще пытался подняться. Он еще помнил, что нужно встать, идти или хотя бы ползти туда, где свет, но было уже поздно. Острые лезвия впились под ребра, зрение затянула кровавая мгла. И не было никого, кто спас бы его, кто отогнал бы этих — ни белокурого ангела, ни друга, ни женщины с добрыми глазами… Только тень мелькнула, и он отчаянно рванулся к ней — к золотому отблеску на темном, должно быть, синем фоне.
— Сида! Сида… — крикнул, но это уже была сплошная мука, никто не услышал, никто не смилостивился, и что-то вдруг треснуло, словно стекло разбилось, и Келли увидел себя самого сверху и немного слева: он лежал ничком, неловко раскинув руки и ноги, прямо в приливной волне, пальцы хватали песок с водой… И вдруг он перестал понимать, что все это значит, слова и образы утекали из сознания, а вместо них тупая, страшная растерянность стала очень быстро поглощать его.
И рыжеволосая женщина в синем платье выпустила из тонких пальцев это… красное, круглое, хрустящее и сладкое, теплое, и оно покатилось из стремительно пустеющей памяти и рассыпалось горящими углями над западным горизонтом. А потом и они погасли.
«Катерина… Катерина…»
Что это? Кто это? Где?
Она просыпается и не может проснуться, пытается откинуть сон, как одеяло, но рука задевает только шершавую побелку.
«Оооох… пожалуйста… пожалуйста… еще…»
— Что? Кто здесь? Что такое?
«Потрогай… что-нибудь…»
Она наконец просыпается вся — ну, или большей частью — в пустой серо-белой комнате, в пустом серо-белом предутреннем свете, — бледное лицо, серо-зеленоватые глаза — тоже еще полупустые. Длинный рукав длинной ночной рубашки — и он серовато-белый. Рука, сжимающая серое овечьей шерсти покрывало. Темно-рыжая, мокрая от внезапного пота прядь из-под туго повязанной на ночь косынки.
Женщина медленно приходит в себя — это трудно. В себе почему-то тесно. Там еще этот непонятный голос. Мучительно знакомый, но чей?
Она совершенно одна.
Пальцы медленно разжимаются, выпускают одеяло, и сердце подскакивает, колотясь чуть ли не в горле. Каждая ворсинка колет ладонь, все слишком ощутимо, по мышцам руки будто пробегает электрический ток. Я же не пила на ночь чай из сухих кактусов, думает она. Меня не кусали бешеные собаки, не слюнявили летучие мыши с мордами злых духов. Я не находила на себе боррелиозного клеща. У меня нет жара… кажется…
Она подносит пальцы к губам — старый способ, первым делом попробовать, не холодные ли, а потом приложить к шее — у ключицы, там надежнее, чем на лбу, но…
Но и это движение, простое и выученное с детства, ошеломляет ее — в изумлении она смотрит на руку, потому что ее рука не может быть такой… от ее прикосновения не может так бросить в жар, до сухого звона в ушах, сквозь который она снова слышит этот ужасный, невозможный голос.
Читать дальше