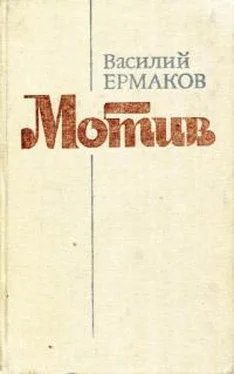— Соболев! — прозвенел ее шепот. — Поди прочь!
Он молча лег на кровать и одним неодолимо сильным движением положил ее рядом с собой.
— Пусти-и! — просила она. — Пусти… варвар…
Он содрал с нее сорочку и бросил на спинку стула.
— Ну пус-ти же, — умоляла она. — Как… тебе…. не стыдно…
Он увидел ее сильные ноги и крепкий, словно вылепленный живот. Руки его засновали еще беспощаднее. Стало ясно, что все будет так, как хочет он.
— Рассопелся, — вдруг совсем другим — равнодушным и презрительным — голосом сказала она.
Соболев униженно затаился. Едва сдержал неистовое желание залепить ей пощечину.
— Ну перестань, — пересилив себя, сказал он. — Что в этом такого? Это же естественная потребность.
— Пошел вон! Убирайся вместе со своей естественной потребностью.
Он соскользнул с кровати. Кончиками пальцев поднял сорочку, бросил ее Тоне, сказал раздельно и жестко:
— Вышивки — это мещанство.
И вернулся на свой диван, нимало не заботясь о том, слышат его Анисья Деевна и Юрий Алексеевич или не слышат.
«Ну, все. Побаловался, и хватит. Завтра же домой. Таких кралечек и в Смоленске навалом. Причем без комплексов».
Возбуждение улеглось. Осталась режущая, холодная, пронзительная злость.
«А все же она не позвала родителей…»
Проснулся Соболев чуть свет — солдатская привычка.
«Уезжать? — первое, о чем он подумал. — Ну нет. Извините. Ничего еще не потеряно. Все только начинается…»
В печи уже бесновалось жаркое березовое пламя. Анисья Деевна ловко раскатывала на посыпанном мукой столе ржаные сканцы для калиток.
— Чем могу быть полезен? — энергично осведомился Соболев, зная, как в деревнях ценят хозяйственных людей.
— А спал бы на здоровье! — отмахнулась Анисья Деевна. — Хозяйство наше — одной делать нечего.
Юрий Алексеевич сидел на лежанке и с наслаждением курил. В комнате Тони было тихо. Соболев обул сапоги, выскочил из избы и побежал безлюдной утренней улицей вдоль села. Мороз тиснул было железной хваткой и отпустил — кровь уверенно обогревала тело.
За избами блестело замерзшее озеро, еще не покрытое снегом. Утренняя заря окрашивала алым цветом заиндевелые деревья. Из-под ног взмывала легкая как пух снежная пудра.
Юрий Алексеевич в шапке, полушубке, валенках и огромных рукавицах вышел подмести площадку перед крыльцом. Зачерпнув пригоршню снега, Соболев крепко растер свою широкую грудь. Старик одобрительно покашливал. Глаза его завистливо блестели.
— Да ведь околеешь! — всплеснула руками Анисья Деевна, увидев мокрого, красного от мороза Соболева. — Ну, шальной!..
И вынула из комода полотенце из грубого домашнего холста. Соболев растерся. Неуемная бодрость закипела в каждой жилке и в каждой мышце. Нырнув в гимнастерку, он подхватил ведра и помчался к колодцу. Десятиведерный ушат был наполнен за пять минут.
Перед сараем высилась пирамида нерасколотых березовых чурок. Соболев схватил тяжелый колун. Промерзшие чурки раскалывались с упругим звоном. Во все стороны летели золотистые щепки. Юрий Алексеевич принялся складывать поленницу.
— Ну, молодец, солдат, — похвалил он Соболева, когда они вернулись в избу. — Работа в руках горит.
В кухне вдохновенно посвистывал никелированный самовар, присосавшийся в отдушине печи коленчатой трубой. Перегородив под валом из багрово тлеющих углей, Анисья Деевна обмела нутро печи влажным можжевеловым веником и, накладывая калитки на деревянную лопату, стала ловко рассыпать их по раскаленным кирпичам. И так сделалось хорошо, покойно и уютно, что Соболев почти пожалел о том, что вчера произошло с Тоней.
— Слушай, — заговорщицки обратился к нему Юрий Алексеевич. — Так как Штирлиц-то засы́пался?
— Ну как? Мюллер спросил его: «Штирлиц, ты…»
В комнате Тони раздался стук передвигаемого стула. Соболев насторожился.
— Ну, ну! — торопил его Юрий Алексеевич.
Но Соболеву было не до того. Сейчас она выйдет. Что будет? Не пришлось бы шапку в охапку, а мешок за спину.
Анисья Деевна выхватывала из печи лопатой румяные калитки и проводили по каждой из них пучком куриных перьев, обмакнутых в растопленное масло.
Вышла Тоня. Лицо ее несколько осунулось, глаза блестели так, будто у нее была высокая температура, губы набухли — наверное, она плакала ночью. Как и вчера, опять поразился Соболев ее строгой («без сучка и задоринки») красоте, но уже не оробел, а испытал нечто похожее на гордость.
— Общий привет, — сказала Тоня и, не глядя на Соболева, спросила: — Ну как — преуспел в обольщении родителей?
Читать дальше